|
|
|
|
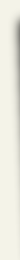 |

|
|
|
Запах родной земли
Алексей Мехонцев родился в городе Шадринске в 1944 году. Детство его прошло в
совхозе им. Буденного, который в народе звали Буденное, сейчас это деревня
Октябрь. Там они с мамой Анастасией Семеновной Задориной, рабочей совхоза, жили
в простой землянке, вырытой на берегу оврага, и все звали Алексея Лёней
Задориным, по фамилии матери, вплоть до окончания школы.
Он поступил в Шадринский автомеханический техникум и тут при оформлении
документов узнал, что его фамилия по отцу — Мехонцев. После службы в армии
окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического
института.
Два года вел уроки рисования и черчения в сельской школе. Десять лет преподавал
в Шадринской художественной школе им. Ф.А. Бронникова. Доцент
художественно-графического факультета Шадринского государственного
педагогического института, в этом вузе он 13 лет обучал студентов живописи и
композиции. Еще 10 лет работал художником-конструктором на Шадринском
автоагрегатном заводе.
Алексей Мехонцев — член Союза художников и Союза писателей России, участник
более 40 выставок в Шадринске, Кургане, Челябинске, Екатеринбурге и в Берлине. У
него вышли несколько сборников прозы и стихов, однако, как сообщил нам автор,
кроме родного Шадринска, его «опусов никто не видел».
Ночная прогулка
Я приехал в родную деревню на побывку и с ночевой. Давно, больше месяца, не
бывал у мамы. В конце ноября резко похолодало, аж до минус тридцати градусов. Но
мама в горнице редко топит даже зимой. Двери в нее закроет, на кухне затопит
русскую печь. И потом на горячих кирпичах сидит греется да носки вяжет.
Деревенским за молоко. Бартер — по-нынешнему называется.
А раз я остался ночевать, она взяла да истопила в горнице. Да вьюшку-то, видно,
рано закрыла. Я слышу, что-то в ушах у меня или в висках затукало. Я подумал,
что угорел, наверное. Отложил книжку, которую читал, оделся и вышел на улицу —
подышать свежим воздухом.
Месяц уже высоко взобрался, завис над полями. Яркий, стоит на рогу — к холоду
значит. Накануне тетка Прасковья говорила: «Опять на рогу народился, вот и стоит
холод. Давно в ноябре такого не было». Побрел я по деревне в сторону землянок.
Светло от яркого месяца и белого снега.
Поймал свои мысли на том, что какое-то двойственное чувство испытываю. Вроде все
так знакомо с детства и в то же время почему-то кажется чужим. Не знаю, отчего
это. То ли потому, что редко стал ездить на родину... То ли потому, что
холодина... Нет тепла, не откликается душа.
Пошел я на то место, где родился, где вырос, где наша с мамой землянка была.
Густые заросли дурбетнины-шишебарки, крапива, лебеда. Все быльем поросло.
Тополь, что возле молдаванской землянки рос, высох от тоски или от старости.
Умер стоя… Боль теперь одна от этого места. Грустная береза одиноко напоминает о
нашем огороде. Стоит на склоне горки. Сквозь голые ветки посверкивают далекие
звезды да остророгий светило-месяц. Отсюда открывается широкий просторный вид на
поля и далекий лес. Единственное жилище здесь занимал лесник Казимир Витальевич.
Но и он в этом году помер. Нет ничего вечного.
Постоял я, покрутил головой по сторонам. Тут катались с горки на лыжах и санках.
Рядом на болотце или на плотине — на коньках-снегурках, прикрутив их веревками к
подшитым валенкам. А сколько радости было, если кто-то из старших давал
прокатиться на «дутышах», на настоящих коньках, которые не разъезжаются в
стороны, как снегурки. Несешься по тонкому льду, который аж прогибается,
потрескивая. Возьмешь вставишь в коньки зажженные коричневые палки камыша.
Бежишь, а от ног дымки развеваются. Привольно и радостно!
Вспоминается, как сидели у нас на русской печи с ребятами, когда мама дежурила
ночью на птичнике. Сидим, грызем сухарики, а кто-нибудь рассказывает страшные
истории про оборотней, жуть берет. Холодок по спине. Или любили на железной
буржуйке печь нарезанную пластиками и посыпанную солью картошку. Очень вкусные
печенки. Обжигаешься, да ешь.
Постоял, погрустил. Потом прошелся по улице, где жила наша баба Дуня. Тут тоже
от улицы осталось два домика. Где усадьба бабы Дуни была, торчат три столба. Это
были большие ворота и калитка. Пусто. Нет самого любимого моего места, где я
вырос, где я вскормлен, где был любим всегда. Один раз мама положила на санки
мешок муки и сказала, чтоб я вез его бабе Дуне. У нее семь девок было. Встретили
меня Нюра, Маня да Валя: «Ой, Леня, чего это ты привез?» Я и говорю: «А чтоб не
считали меня иждивенцем-то, что объедаю вас. Вот вам муки привез». Они смеются.
«Вот молодец», — говорит баба Дуня, а сама кончиком платка смахивает слезу...
Где ты теперь, моя баба Дуня? В каких краях обретаешься? Отрада ты наша, всех
нас, внучат, привечала, как родных детушек. Каждому нашла слово доброе. Каждому
отдала всю свою душу, всю нескончаемую любовь свою... Мы тебя помним и любим...
Дальше бреду. Вот рядом Симаковская гора, на ней все наши детские зимы прошли.
Допоздна, уже при луне, катались мы с этой горки. Теперь она какая-то маленькая,
низкая стала. А тогда была длинная, летишь на санках — аж дух захватывает. А на
лыжах через ямы (из них раньше глину брали) не каждый насмелится съехать.
Страшно! Но мы отчаянные были. Да и стыдно бояться. Хоть и упадешь — не беда,
себя этим не уронишь. Бывало, что носки лыж втыкались, и ты летел кубарем. Лыжи
были самодельные, плохо крепились… Поднимался, отряхивался от снега, набившегося
в валенки, за воротник, в рукавицы. Осматривался, и горю не было предела, слезы
сами текли из глаз. Носки лыж были сломаны.
Мне дедо Семен добрые лыжи сделал — носки хорошо были загнуты. Кринку сметаны за
них деду отвез — мама наказала. Но недолго я радовался, сосед Сано Галунчиков,
отчаянный хулиган был постарше меня, изрубил мои лыжи. Учился он плохо. Отец у
него был без ноги, ходил на костылях и драл своего сынка как Сидорову козу.
Галун, как звали моего обидчика, воровал у отца папиросы, курил сам и нас
заставлял чуть не силой. Припугивал. Один раз сидели, покуривали папиросочки
«Прибой». Мимо пробегала Люба, наша ровесница. Прихожу домой, а мама меня
голиком встречает. Да как начала драть, как начала понужать! Я сразу понял, за
что. За курево. С тех пор не курил до армии. Техникум закончил в 18 лет. Мама
как-то спросила, курю ли я? Я ответил, что нет. «Кури, если хочешь», — сказала
мама. В армии я снова взялся за папиросы и лет двадцать потом пазил до одури. Но
здоровье дало понять, что надо бросать. Бросил, уже лет двадцать не отравляю
себя.
А судьба Галуна была такая. Уже взрослым он попал под поезд.
Стою на горке, а мысли в далеком детстве плутают. Светло тут. Думал, что и
следов никаких не увижу, пятьдесят лет прошло с тех пор, но горка все так же
утрамбована и укатана лыжами да санками. Помню, мы до поздней ночи тут катались.
Обледенеет вся одежда, весь в снегу. Думаешь, что вот последний раз скачусь и
домой. А ребята все катаются и катаются. И опять остаешься. И так до
бесконечности. Пока матери не прибегут за нами да не наругают, да шлепков не
наподдают. Дома одежду снимут с тебя, а она не гнется, коробом стоит. А когда
оттает, сникнет, упадет, станет мокрой. Вот тут мать еще добавит «на орехи»...
Пошел я по твердой лыжне, что ведет на кирпичный завод. Там мы уж подростками
катались. Да в овраги ходили. Или сделаем трамплин из снега и летаем как птицы с
него. Вот тут-то лыж было поломано! И школьных, и своих. А в оврагах и вовсе.
Это уж на любителей острых ощущений — на смельчаков. Бывало, еле возвращались со
сломанными лыжами, но на своих ногах, слава Богу.
Постоял опять, повитал в облаках воспоминаний, посмотрел на далекие бугры и
побрел обратно.
Ночь светлая... Звезды яркие, перемигиваются. Висит надо мною ковш Большой
Медведицы. И Млечный Путь запутался в ветвях высоченных тополей, как я в этой
ночи...
Вокруг ни единого огонька. Пустота. Лишь внутри еще теплится огонек воспоминаний
о детстве, о родной стороне, о маме, о бабе Дуне.
Побываю я на миг в родных краях, всполохами озарят память картины детства,
отрочества или юности, и опять я уеду надолго от всего светлого и доброго...
Реможник
Из детства мне очень ярко запомнился такой праздничный день, когда в деревню
приезжал «реможник». Это ездил по деревням на лошади, запряженной в телегу,
пожилой мужик и собирал ремки, цветной металл — какие-то пришедшие в негодность
предметы быта — самовар ли, котелок ли. С его приездом мир будто расцветал. Все
обычные дни начинали сверкать яркими красками. Привычную тишину будили звонкие
свистульки — «пташки-пикушки». Мужик сидел на сундуке, а сзади возвышался ворох
всякого тряпья. Откроет свой сундучок сказочный, и засветится округа переливами
разноцветных шелковых ленточек — девчонкам, цветных резиновых шаров — ребятишкам
помладше. А старшим — цветные «пташки-пикушки». Женщинам — клеенку с различными
узорами или платки и яркими малиново-красными розами да зелеными листьями на
черном поле. Мужикам — диковинные городские тонкие папиросочки пачкой или «на
штуки». А то и крючки рыболовные всяких размеров.
Тащим ему разное ненужное тряпье, а порой еще и могущие послужить вещи, лишь бы
пикушку получить или крючок рыболовный настоящий — «базарский» («сглотыш») и
кусок лески. А то, бывало, мы ловили гольянов, сделав крючок из булавки, но без
зазубрины, поэтому гольяны часто срывались. А леской служила обыкновенная нитка.
Всем находился у «реможника» предмет по душе. На следующее утро в разных концах
деревни раздавались соловьиные трели «пташек-пикушек». Праздник для ребятишек
продолжался.
Вот и я, выросши, решил изготовить такие свистульки. Только каждую наделить
своим видом необычным, чтоб запоминалась ребенку. У меня тут собрались все
домашние животные, больше преобладают круторогие и норовистые бычки, барашки
блеющие, потерявшие свой дом, и кони златогривые, и русалки волоокие, и
коты-котовичи, ухмыляющиеся в усы, и самодовольные индюки, и птички-попугайчики,
и петушки с курочками. Всего насочинял, нафантазировал, да только никто не берет
мои поделки. Нет денег у рабочего человека. Товары же, все больше иностранные,
заполонили рынок. Разные супермены с автоматами и пистолетами, коих по
телевизору показывают, где одни жестокости да убийства, — этим всем товаром
снабжают. Почему это нравится современным детям?..
А вот изделия современного «реможника», то есть мои, почему-то не привлекают их.
Нет спроса... Поэтому меня можно с твердой уверенностью назвать настоящим
реможником без кавычек...
В овраге
Вечера стоят длинные, тихие и светлые. Пишу у окна. Лампу так и не включаю.
Белые ночи начались.
Последнее время керамикой увлекся. Делаю из глины свистульки. Нашел хорошую
глину. Как пластилин, нежная. Любому движению руки подчиняется. Копаю глину в
овраге, а кругом березки молодые стоят. Зелень листьев еще не потемнела. Чисто,
светло и солнечно — как в русской горнице. Все цветет и благоухает. Медом
напахивает от медуницы. В голубых венчиках цикория летнее небо звенит. Вершины
берез мерно покачиваются, выметая с синевы небес белые облака. Но сожмется болью
сердце, что красота эта может исчезнуть, когда придет зимушка-зима с холодными
метелями и беспросветно серыми днями...
А пока что светлая радость переполняет мою душу от каждой травинки, цветка или
деревца с трепетными нежными листочками.
Встреча с родной стороной
«Икарус» идет на повышенной скорости. Кажется, что это не автобус мчится, а
лента асфальтированной дороги летит навстречу ему, падает под колеса и снова
взлетает сзади, скрываясь за поворотом в березовом перелеске.
Не доехав до конечного пункта, выхожу из автобуса на остановке в Максимово и
последние пять километров иду пешком через лес, напрямую, по полевой дороге. Как
в юности, когда автобусы к нам в Буденное не ходили. Утро бодрит прохладой.
Шагаю сквозь поросль стройных берез. Их чистые, белые с розоватым оттенком
стволы, кажется, излучают прохладный свет. Эту тишину нарушают только мои шаги.
Грудь распирает радость от скорой встречи с родной стороной. Иду мимо набухших
весенней влагой полей.
И вот я стою на высоком бугре, а внизу, вдоль речушки, цепочкой растянулись
белые шиферные крыши вперемежку с железными, крашенными суриком. Возле старых
полузаброшенных избушек на окраинах высятся тополя. Оттуда доносится утренняя
перекличка петухов. Изредка незлобно пролает собака, да протяжно замычит
буренка.
Нынешняя весна и начало лета не балуют нас теплом и ясным солнышком. Постоянно
бороздят небо низкие облака. Бывает, пролетают «белые мухи».
Переживает хлебороб, как уродит земля в этом году? Хоть и говорится в пословице:
«Май холодный — год хлебородный», но как-то будет на самом деле?
Вдыхаю запах родной земли. Он словно поднимает меня на крылья и уносит в далекое
детство, где по вечерам витали мечты и сказки возле горящего в темноте костра.
Уносит в светлый мир, наполненный теплотой материнской ласки. Шершавая ее ладонь
нежна и тепла, оберегает от лихолетья Времени.
В Молдаванском краю
Рассказывает моя мама:
— Когда ты перешел в пятый класс, я продала нашу землянку, а купила саманный
беленький домик в молдаванском краю. В 1951 году много молдаван раскулачивали и
выселили к нам в Зауралье. В совхозе им. Буденного целый молдаванский край вырос
из белых хат-мазанок.
Райляны, наши соседи, вспоминали, что у них был свой магазин в родном их краю.
Но власти конфисковали их хозяйство и отправили в Сибирь, то есть к нам. А жить
негде у нас. Квартир нет. Свои рабочие жили в землянках. Молдаванам давали ссуду
на самостоятельную постройку дома. Они оказались людьми умными и работящими.
Семьи у них были большими. Но строили они себе дома не из рубленого лесу, какие
в Сибири строят, а такие, как они у себя в Молдавии делали. Нарубили жердей, из
них сделали хату, да с обеих сторон глиной уляпали. А деньги (ссуду) на скотину
истратили. Завели корову, овечек, кур, гусей, уток. Работали они, сил своих не
жалея. Были к единоличному труду приучены еще у себя в Молдавии-то.
Саманные дома — это когда смешивали глину с соломой. Перемесят все и наполняют
этим формы. Получались большие кирпичи. Кирпичи эти сушили на солнце в штабелях,
а потом строили из них дома.
Вот в таком домике мы с мамой и жили. Очень холодный он был. Не для наших
сибирских морозов. Промерзала глина и не держала тепло. А летом в нем прохладно,
не вспотеешь. В нем была маленькая кухонка с камином и русской печью. Лежанка
такая, что одному взрослому человеку и то трудно поместиться. Мы с ребятами
грелись на печи попеременно.
Витя Кулаков и другие ребята частенько ходили к нам ночевать, когда моя мама на
конном дворе в ночь дежурила. Он любил рассказывать нам страшные байки об
оборотнях. Много их знал. С вечера мы обитали в конюховке у камина и пекли
печенки или помогали маме раздавать корм лошадям. Напоим их, а потом уж убегали
к нам домой. Истопим печку, нажарим картошки, наедимся. Вначале тепло станет, но
потом тепло куда-то быстро исчезало, особенно зимой в сильные морозы. Не знаю,
как молдаване десять длинных зим выдержали в своих саманухах. Мы забирались
вчетвером на кровать, размещаясь «валетом», закрывались одеялом с головой.
Рассказывали разные байки да страшные истории. Так и засыпали.
Бывало, только уляжемся на кровати, как кто-то застучит в окно. Мы дрожим,
спрятавшись под одеяло. Это кто-нибудь из старших ребят пугал нас, зная, что мы
дома одни.
Мама нет-нет да вспомнит:
— Мне часто снится наш саманный домик, будто опять в него переезжаю. Он хоть и
холодный был, а я почему-то часто во сне его вижу. Там сейчас строят новые дома
на нашем-то месте. Все наши сады, что мы с тобой садили — и яблоню, и черемуху,
и вишню — все бульдозером сравняли с землей... Ничего не осталось. А домик этот
беленький так и стоит у меня в глазах... Тятя потом сенки к нему пристроил, а
сенок-то не было вначале. Камолый какой-то был. У меня там и землянка была для
коровы с курицами. И огород хороший. Все ладно росло. Потом ты ушел в техникум
учиться, дак я продала корову-то. И в армию тебя из этого домика провожали. Tы
девок приглашал и ребят. Вечеровали. Пластинки на радиоле крутили. Наверное, все
ведь помнишь? На другой день пошли тебя провожать. Сашка Задорин был
гармонистом. Здорово пели частушки:
Эх, матаня, встань поране,
Вымой лавочку с песком,
Повезут меня в солдаты,
Ты заплачешь голоском.
Из армии-то ты уж пришел в эту вот избу-то, в деревянную.
Из молдаван-то мало кто остался здесь. Один разве Митя Чорной. Ему у нас
прозвище дали — «Грязной». Все на прозвищах. Мити уж нет в живых. Он в двух
квартирах совхозных жил и везде сады наоставлял. Молдаване все любили сады
разводить. И пчел держал, и скотину всяку. Хорошо жил. Женат был на учительнице
Валентине Гурьяновне…
Молдаване все поуезжали, когда их отпустили домой. По десять лет им ссылки
давали. А жили они тут обособленно, в вечном труде. Честно, добросовестно
отбывали свой срок, хотя Сталин давно уже умер.
В космосе летали спутники с собаками Стрелкой и Белкой, побывал там и первый
человек — Гагарин. А молдаване все еще жили в холодной Сибири, вдали от своей
виноградной Молдавии.
Как они тут оказались у нас — это надо товарища Сталина спросить. Он, «отец
наш», очень любил эти пересылки: евреев — в Биробиджан, на Дальний Восток, татар
— из Крыма, немцев из Поволжья — в Казахстан, Чечню — в Сибирь. Русских — на
Колыму и в Магадан. Молдаван из Молдавии в Зауралье. Так они оказались в нашей
деревне. И были расселены по всей Курганской области.
В северной части совхоза им. Буденного вскоре по ту и другую сторону лога
засверкали белизной молдаванские хатки. Земли у нас было много. Чернозем. От
молдаван мы научились выращивать и кукурузу, и кабачки, варить мамалыгу. Соседи
они были очень добрые, отзывчивые на чужую беду, скорые на помощь. Угощали нас
посылками, приходившими им из Молдавии — урюком, грецкими орехами.
А потом вот уехали, когда их отпустили домой. После 1967 года молдаванский край
исчез... Теперь они приезжают строительными бригадами в наш совхоз. Строить нам
свинарники. Мы сами, видимо, так и не научились. Они зарабатывали денег за лето
на машину или на дом.
Весной и по ту, и по эту сторону лога, где когда-то белели выбеленные хаты,
теперь буйно растут крапива, репейник, кое-где еще цветут старые кусты черемухи
да белоснежные яблони.
Маму жалко
Шел 1953 год. Первый год мы живем в молдаванском домике, распрощались с
землянкой. Переехали в молдаванский край. Тут я никого не знаю. Скучновато в
незнакомом месте. Все мои дружки остались там, в землянках. Я заберусь на
тесовую крышу нашего беленького домика и сижу, посматриваю с высоты — где ты
там, мой «земляновский» край. Тоскую по заветным местам. Смотрю, смотрю — не
бежит ли кто ко мне из приятелей в гости.
Начало марта. Нас, третьеклассников, учительница заставила обшивать свои
галстуки черным материалом. Принесла иголки, нитки, черную атласную материю,
настригла полоски и велела ими обшить галстуки, сама куда-то ушла. Мы, особенно
мальчишки, никогда не державшие иголки в руках, взобрались на парты с ногами и
принялись за портняжное дело. Корпим, соплями швыркаем. Девчонки куксились,
слезу пускали да размазывали. А ребята хмурились только, обшили галстуки и на
улицу.
...Умер Сталин. На школе и конторе висели обшитые черным красные флаги. Занятия
отменили, но домой не отпускали. Велели оставаться. Возле школы, на солнечной
стороне, уже подсохла земля. И мы с ребятами стали тут играть «об стенку». На
пятаки. Ударяешь пятаком об стенку — пятак отлетает. Потом другой ударяет своим
пятаком. Если заденет твою денежку, то забирает. Если рядом упадет, и,
растопырив пальцы, ее могут достать, то она тоже исчезнет. Азартная была игра,
обо всем забывали.
Смотрю, мама моя идет. И я побежал к ней. Лицо бледное, а рука забинтована до
локтя и подвешена на черном платке. Погладила меня по голове здоровой рукой и
заплакала. Я тоже в рев.
— Поживи пока у бабы Дуни, — сказала она, я в город сейчас поеду, в больницу.
Вернулся я к ребятам зареванный. Потом уж узнал, что руку мамину в силосорезку
затянуло. А ребята думали, что я из-за Сталина реву. А мне маму сильно жалко
было. Мы же с ней вдвоем жили.
Банька по-черному
У деда Семена с бабой Дуней было семь девок и один сын — Сергей. Я его не видел
ни разу. Его на войне убили под Сталинградом в 1942 году. А я родился в 1944-м.
У бабы Дуни в горенке висел портрет дяди Сережи в военной лейтенантской форме. В
рамке в овальном паспорту, под стеклом. Я часто слышал от своей родни, что я
сильно похож на него: «Ты, Леня, вылитый наш Сережка! И нос и губы, как у него».
Я очень гордился, что похож на дядю Сережу. Он был для меня героем на фоне нашей
обыденной неказистой жизни.
Тетка Прасковья была старшая дочь в семье Задорина Семена. Замуж ее отдали рано,
за Юрина Ивана из деревни Любимовой. Он с финской войны пришел раненый. У него
легкое было проткнуто штыком. На Отечественную его уж не взяли.
После они переехали из Любимовой в совхоз им. Буденного. Построили землянку.
Ближе к центру не было места. Они построились в сторону Понькинской дороги, за
логом. В логу чистая вода текла. Кругом били ключи. Это сейчас все загадили
поросячьей парашей. Вонь одна от логов-то идет. И все засыхает в округе — и
березы, и осины, и кусты черемухи, и тополя.
У дяди Вани землянка была длинная. Зайдешь в сенки — все полки заставлены
деревянными колодками для обуви. Он чеботарь был. Обувь шил. И ремонтировал.
Дальше заходишь — его мастерская со столом у окна. Пахнет кожей, варом, резиной,
клеем резиновым. За ней — кухня и горенка. Вот это в земле. Но окна выходили на
юг. Тепло было, уютно и просторно. Даже не замечалось, что это землянка в горе
вырыта.
Землянки крыли пластами — земляным дерном. Рядом были колодец, гряды с огурцами,
морковью, луком, капустой, редькой, горохом, бобами, калягой и подсолнухами. У
лога все хорошо росло.
Каждую субботу вся семья деда Семена и бабы Дуни шла мыться в баню к тетке
Прасковье и дяде Ване. Почему дедо Семен долго не мог построить свою баню для
такой большой оравы, я так и не знаю до сих пор. Когда всех дочерей отдал замуж,
только тогда и построил. Баня у тетки была тоже в горе, тоже землянка. Топилась
по-черному. Даже предбанника не было. На крыше росла высокая трава лебеда.
Двери и косяки были черные от дыма, валившего из бани через дверь. В первый жар
ходил Иван Павлович — муж тетки Прасковьи. Париться любил. Или шел дедо Семен с
бабой Дуней. Часто меня брали с собой. Я сидел внизу на лавке, а дедо на полке.
На каменке были наложены всякие чугуняки, на которые баба Дуня плескала воду —
поддавала жару дедку. Он тоже очень любил париться. До изнеможения хлестал свое
худощавое, изробленное тело, свои косточки.
Мама рассказывает: «Наш тятя пил чай ли, хлебал ли похлебку — все с пылу, с жару
— с огня, крутящий был мужик, особенно в работе. А есть любил только горячее. То
и зубы-то и выжгал. А у бабы Дуни все зубы до единого были целы, допоследу. Она
восемьдесят годов прожила. Она все говорила, что пусть остынет, пусть охлынет
немного. Даже пельмени не ела горячие, остужала. И у меня все зубы. Ты вот тоже
по мне. Береги зубы-то».
Предбанника в баньке не было, поэтому осенью и весной неудобно было раздеваться
и одеваться — холодно. Всю лопоть — одежду с обувкой оставляли на улице. А зимой
скидывали только верхнюю одежду. После бани шли к тетке Прасковье. Сидели,
ждали, пока дедко напарится да намоется. Потом выбирались из лога по скользкой
горе, еле-еле, бывало, заберемся. И в дождь, и в слякоть — когда первый мокрый
осенний снег идет. И в летние благостные вечера, и в зимнюю неуютную стужу, и в
бураны ходили в эту баньку по-черному. Заметет все переулки вровень с огородами,
вот и лезешь по сугробам по колено, торишь дорожку. И баньку заметет, сравняет
вровень с землей. Откопают, огребут. Истопят. И опять можно мыться да париться.
И так до следующей субботы.
Зимой рано темнеет. Мылись при «мигушке» — лампа керосиновая без стекла. Когда я
в школу пошел ходить, то мылся уже в бане с мужиками. Ничего не осталось от тех
мест, где жили люди в землянках. Одна гора осталась горой, да высокие тополя,
густо разросшиеся, напоминают о том, что тут когда-то жили... И никто теперь не
навещает их, одиноких...
Лишь мой друг детства, тоже выросший в землянках, Петр из Омска, как святой
апостол, раз в десять лет бродит ночною порой при усмехающейся полной луне,
тревожа чуткий сон ворчливых грачей, отдыхающих на старых тополях перед отлетом
в дальние теплые страны.
Слезинки весны
Приехал я на выходной к маме в деревню. Сидим за столом. Солнышко пригревает
сквозь стекло.
За окном тихий зимний пейзаж: дома, сараи в белых шапках, заборы увязли в
сугробах, тополя стоят безучастно ко всему на свете. Лишь воробьишки на кустике
черемухи спокойно переговариваются да ерошат перышки.
Бывает, сидишь вот так и с нетерпением ждешь чего-то...
Чуда что ли?..
Солнце многоцветно помигивает искорками снежинок.
Хотя и не чудо, но умиротворение приходит... Невольно улыбнешься увиденному.
Огромный лохматый соседский пес Мишка тянет под утор поваленные набок санки, а
за ним весь в снегу неуклюже ковыляет мальчишка лет пяти и старается ухватиться
за санки — падает, спешит подняться. Пес неожиданно останавливается у большой
желтоватой глыбы снега, обнюхивает ее.
Тут и настигает его наездник: ставит санки на полозья, подходит к собаке. Мишка
пытается лизнуть мальчика в лицо, но тот отворачивается и, поправив ошейник,
тащит пса с великим трудом обратно в горку.
Совсем как в моем детстве. Где ты, дружная и вольная послевоенная
безотцовщина?..
Вдруг за рамой точно клинком кто-то взмахнул — раз, другой. Неужели капель? Не
поверил, стал ждать.
Но так и не дождался... Показалось, решил.
Наверное, две слезинки весны скатились, как будто из глаз моей мамы, что сидит
за столом напротив меня и задумчиво-озабоченно смотрит на своего непутевого
сына-мечтателя...
На воле
Собрав рисовальные принадлежности, отправляюсь в сторону Исети, посмотреть
широкий весенний разлив. Зову с собой Динку — соседскую собачонку. Она часто со
мной прогуливалась раньше, но в последнее время ее что-то не видно было. А
сейчас она нагоняет меня, и мы идем рядом.
К вечеру солнце садится красное, тревожное, прячется в синей хмари. По всем
приметам предвещает непогоду или ветры. Переходя с бугра на бугор, смотрю по
сторонам — выбираю мотив для работы.
Динка увидела бурлящий ручей, вытекающий из распадка оврага. Забежала в воду,
легла на дно, катается, охлаждает себя и отяжелевшие от молока сосцы. Щенята у
нее, видать, появились, вот она и сидела все дома, никуда от них не отлучалась.
Теперь же щенки подросли, и она решилась прогуляться со мной. Встанет из воды,
походит по ручью, резво выскочит на берег и давай отряхиваться, только брызги во
все стороны летят. Отряхнется и ну бегать, носиться по речке как угорелая.
Летит, прижимаясь к самой земле, резвится от прилива сил и бодрости, от ощущения
свободы и необузданной воли...
Вдруг остановится, начнет осматриваться, крутить головой. Я тоже остановлюсь,
прислушаюсь. Да это же журавли курлычут, домой возвращаются? Летят высоко...
Динка уже бежит к Исети, завидев прохаживающихся по берегу чибисов и чаек. А то
вспугнет табунок уток, качающихся на волне недалеко от берега. Ринется за ними
и, заскочив в воду, остановится, следит за их полетом. Пройдя несколько шагов по
воде вдоль берега, выбежит на сухое место и затрусит по речке, перепрыгивая
мелкие ручейки и лывинки. Ну, никак на месте не сидит! Наслаждается свободой.
Ищет чего-то. Принюхивается к каждому свежему бугорочку черной земли, вырытой
кротом.
Наконец я выбираю место и начинаю работать — пишу весенний вечер с сизыми
далями, где высятся тополя и едва виднеются крыши домов. Пишу час, другой.
Ничего не замечаю.
Динка то побежит в направлении к дому, то опять вернется ко мне. Посмотрит
жалобно — умоляющими желтыми глазами, повиляет хвостом, словно спрашивает
разрешения уйти домой. «Что ж, иди, вон твой дом, — показываю в сторону нашей
деревни, — одна дорогу найдешь. Я еще не закончил работу».
Динка, словно поняла мои слова, побежала, принюхиваясь к невидимым следам на
начинающей зеленеть траве. Инстинкт сильнее воли и свободы...
Этюд с вороньим гнездом
Вчера опять после работы ходил весну рисовать. Кое-где остались сверкающие на
солнце лывины. Весенние воды все еще не вошли в берега. Вот эту воду, с
затопленными охристыми, освещенными вечерним солнцем кустами, я и решил
написать.
Особенно долго не удавалась вода. Замерз. У реки пока еще прохладно. Да и
ветерок.
Что-то уж очень грустная получилась у меня весна. Kpacки серо-холодноватые. Нет
ярких, звучных тонов. К тому же и солнце закрыло низкой облачностью. Долго бился
над этим этюдом, пытаясь сочетать краски, чтобы добиться цельного впечатления.
Передал ли я весеннее настроение? Или стало похоже на осень? Но ведь и весна
бывает разная!
На душе моей сегодня как-то зябко и одиноко, пасмурно и тяжело. Значит, созвучно
настроению сегодняшней весны. Акцентом этюда стало гнездо на кустах. Рядом
посиживают две вороны, вернее, одна на суку над гнездом, а у второй только хвост
торчит из гнезда. Вот этот весенний момент и дает надежду на будущее: жизнь
продолжается, несмотря ни на какое грустное настроение. Раз птицы не боятся
холода, значит, и люди должны надеяться на скорое тепло.
Перед отлетом
Неугомонный ветер пронесет тяжелые тучи. И небо очистится, засияет осенней
синевой с напряженно клубящимися у горизонта облаками, на фоне которых станут
заметны парящие в вышине птицы.
...Домашние раскормленные гуси, завидев вольно летящих в голубом просторе
собратьев своих, тоже поднимутся на крыло с бугра при сильном встречном ветре и,
громко гогоча, летят в сторону реки. Едва долетев, снижаются, скользят по воде,
выставив вперед красные перепончатые лапы. На воде они еще долго размахивают
крыльями, громко гогочут и вытягивают шеи. Еле угомонившись, прихорашиваются,
поправляют перышки, гордые и довольные собой.
Грачи перед отлетом собираются в стаи, кружат над побуревшей землей, над
облетевшими тополями и темными от частых дождей домами. Громко и отрывисто
раздаются частые птичьи команды, требующие подняться на необходимую высоту или
не отставать от всех, перестроиться из колонны в шеренгу или наоборот. Птицы
стараются исполнить требования: то падают в стремительном пике и почти перед
самой землей снова вздымают вверх, то поднимутся высоко-высоко и станут едва
заметными точками. А то упрямо полетят против резкого ветра, снижаясь до самой
земли и чуть не задевая крыльями траву. То опускаются на деревья, то на
поскотину за деревней. Отдохнут и снова по команде взлетают. А то снова садятся
— видимо, кто-то не выполнил команду. И опять срываются разом. Так целый день,
бывает, идут неумолимые тренировки в освоении команд и фигур «высшего пилотажа».
День за днем взрослые птицы обучают летать новое поколение в едином строю. А со
временем собираются они в большие стаи, чтобы всем вместе, а не по одному,
преодолевать невзгоды и длинные расстояния на пути в заманчиво-сказочные теплые
дальние страны.
Пасмурные дни
Дождь начал лить в субботу вечером. Шел всю ночь и все утро. К полудню
постепенно затих. В это затишье я и решился на речку сходить. Посмотреть, как
там на природе. Вдохнуть вольного ветра, а может, и порыбачить, если повезет.
Земля напиталась влагой, раскисла. Грязь стоит непролазная. Рано темнеет. Едва
доберешься до дому.
Бредешь, только брызги летят да сапоги чавкают. Ноги скользят, разъезжаются в
стороны.
Чтоб отвлечься от неприятных дум, набраться новых сил, беру удочки, зову с собой
собаку Динку, и мы отправляемся на реку.
Вот она наша речка Исеть, текущая в осенних ржаво-желтых зарослях ивняка.
Разлилась по поскотине-то как! Воды-то, воды! Порой и веснами бывает меньше.
Какая ширь! А ветер холодный, налетает порывами. Облака серые, тяжелые, у
горизонта темно-синие. Не плывут, а, кажется, наваливаются, готовые все светлое
и звучное раздавить, все смести, неугодное им... Время почти остановилось...
Волны бегут, сверкая стальным отливом.
Закинул удочку, жду поклевки. Клева совсем не видно. Поднимешь удилище, а рыбка
уж на крючке сидит, не упирается и не трепыхается в воздухе, не серебрится —
висит как мертвая...
Динка не бегает по речке, не резвится, как весной, не радуется простору и
свободе. Вдруг вовсе куда-то исчезла. И я не рад своим редким чебачишкам.
Померз, попрыгал у реки часа два. Думаю: «Хватит рыбачить, надо собираться
домой, пока не застыл совсем».
В холодный пасмурный день, видно, и простор не радует, не утешает... А придешь
домой, согреешься, отмякнешь и все равно с благодарностью вспоминаешь
проведенное на воле время.
Пришла зима
Как-то, возвращаясь холодным осенним вечером, я заметил на застывшей земле
бабочку. Осторожно взял ее, положил на ладонь. Коричневато-кирпичного цвета
крылья с темными и белыми пятнышками не двигались. Тихонько сомкнув пальцы,
чтобы не помять эти хрупкие крылышки, я опустил руку в карман пальто и зашагал
быстрее.
Прихожу домой, с нетерпением раскрываю ладонь — бабочка лежит все в том же
положении и не подает никаких признаков жизни. Я опустил ее на табурет. Поставил
его рядом с печкой.
Поужинав, накормил кошку и устроился возле печки с книгой. Тут вспомнил: «А где
же бабочка?» Стал искать. Ее нигде не было. Заглянул под каждое полено возле
печки — нет бабочки. Подумал, может, кошка съела, пока я ужинал.
Сижу, читаю. Смотрю, Муся принюхивается к полу. Будто мышку почуяла. Оттащил
Мусю в сторону, отвернул половик. Так вот она где, беглянка! Ожила!
Бабочка уже шевелила усиками-антеннами. Крылья волочились по полу. Она едва-едва
передвигалась, припадая на бок. Поднял ее и решил положить на ночь в книжный
шкаф, за стекло, чтобы Муся не съела.
Утром встаю, первым делом сразу к шкафу. Туда-сюда… Не видно бабочки. Куда
подевалась? Отодвинул стекло, вытащил несколько книг с одной стороны. Потом с
другой. Вот она! В угол забилась. Достаю, посадил на ладонь. Бабочка пошла по
руке, неслышно вспорхнула и полетела. Штора у одного окна была откинута. Оттуда
проникал в комнату мягкий утренний свет. Бабочка и устремилась на этот свет.
Тихонько подхожу туда. Глянул в окно, а там белым-бело.
Зима пришла! Вся земля укутана пуховым платком. Солнышко озарило синеву первого
снега, он запереливался разноцветными искорками.
А бабочка сидит на оконной раме и тоже удивляется этому чисто-нежному первому
снегу. Часто так шевелит крыльями, будто хлопает в ладоши от радости. Раскроет
крылышки, а узоры на них просвечивают, горя, словно на витраже.
Живы трудом своим
Третий день идут проливные дожди. Днем темно и сумрачно, как вечером. Осень
наступила с началом сентября. Первого сентября даже снег пошел — слекиша.
Холодно стало. Пришлось печку топить. Чуть перестал дождик, и я решил в огород
сбегать. Надел сапоги, штормовку. Дождь будто увидел меня и припустил с новой
силой. Я нарвал моркови, огурцов, что остались из последних, кочан капусты
скороспелой — аж треснул, один кабачок. Тыквы еще растут — но такие громадные,
что одному не поднять, наверное. Еле дотащил до дому ведро. Опять заломило спину
— огород у нас далеко от дома, километра за полтора будет. При новом режиме —
при капитализме — я стал безработным. Не нужны мы стали со своим творчеством.
Нет спроса на труд. И хороших перемен не предвидится. Грустное время. Вот я и
занимаюсь выращиванием подножного корма, чтобы выжить в дико безденежное время.
На днях мама позвонила, говорит, что помидоры наспели. Я ей теплицу сделал. Надо
наведаться к ней. Две курицы нынче у нее выпарили цыплят самостоятельно, где-то
в крапиве. И привели домой. Время к осени. Поздние цыпушки. Надо за ними ходить,
кормить да выращивать. Теперь маме никуда не выбраться будет из дому, боязно
бросать маленьких. Даже в лес не убежать — по грибы или по ягоды, по вишенье,
боярку или шиповник. Она мне полную сумку всего набила. И помидоров, и грибов
соленых, да еще яичек положила.
От нее я в то же утро и уехал. Она, как всегда, меня провожала до остановки.
«Книгу-то написал?» — спросила она неожиданно. Я достал и подал ей. Она
посмотрела картинки, ничего не сказала. Не до того ей, видать, было. Собака
Цыган у нее потерялась. Она его по всей деревне искала. А он в садике, где
смородина, лежал несколько дней. Он такой старый стал, что ослеп и оглох. И нюх
потерял. Куда уйдет, назад вернуться уже не может. Огорчалась мама, что под
окном одна яблоня высохла, я спилил ее. Черемуха тоже посохла. У тополя ветки на
вершине появились сухие... Напоследок она сказала мне: «Айда с Богом!»
…Перед дождями я убрал лук, два мешка привез. Лук крупный вырос. И картошку
выкопал, тоже хорошая. Хоть и рано ее брать, считают, но не захотелось мне в
грязи да холоде ковыряться. Мешков восемь накопал. И сухую спустил в погреб.
Теперь радуюсь, что не поддался на уговоры не копать рано.
Грязь стоит непролазная, уже неделю мочит каждый день.
Вспоминаю, как я весной все это садил в огороде. Посадил я огурцы на землю. Уж
все сроки прошли. У людей-то на навозных грядах уж цветут огурчики вовсю. Думаю,
не дождаться мне своих огурчиков. Только взошли, смотрю — кто-то стал их
съедать. И соседи тоже замучились их высаживать. Кто-то съедает, то ли мыши, то
ли козявки какие. Много их нынче развелось. А я все подсаживаю да подсаживаю.
Смотрю — начали отрастать. Только дождусь ли плодов? Зацвели — и все пустоцвет.
Стал поливать каждый день. А такая жара да сушь настала, что земля стала
трескаться. Уж пора окучивать картошку, а дождя все нет и нет. Но смилостивился
Господь — таких ливней послал, что у меня три луны с огурцами смыло. Свеклы
полгряды только осталось. А по картошке такой овражек вымыло, что и земли
неоткуда взять, чтоб засыпать. Я раза три принимался после ливня окучивать
картошку, но припустит опять, я с поля бегом под кусты. Пересижу. Как перестанет
лить — я опять продолжаю окучивать. Да такая картошка наворотила, что соседи
завидовали, видно, не постарались окучить.
Уж сентябрь наступил, а огурцы у меня и растут, и растут. Видимо, не зря я тут
гнулся. Мы с женой уж два десятка банок засолили. Знакомым в город давали.
Мы сидим с женой ужинаем — едим жареную картошку. Размышляем: «Вот, все надо
делать с радостью да со старанием, тогда и получаться все будет».
Вспоминаю мамины слова, когда я в школу в первый класс пошел. Она вышла из
землянки за мной, проводила до ворот. И, перекрестив меня в спину, сказала свое
неизменное: «Айда с Богом!» Я довольный побежал в школу. На боку холщевая сумка
болтается. Ходил в школу с удовольствием, любил учиться, знаний набирался, а
куда это все? Надо было хитрости набираться да о выгоде думать.
Да только мне такая жизнь не по нутру. Не уважаю я таких людей, хоть и живут они
припеваючи.
Да Бог им судья...
Цветы вдовам
На 9 мая я всегда старался приехать к маме. Огороды уже вспаханы, садим
картошку. Садить — не копать. Быстро разбросали. До обеда управились. Смотрим —
тетка Прасковья с дочерью Марией все еще садят. Пошли с мамой к ним. Я взял
лопатку. Мы с Машей копаем ямки, а мама с теткой бросают картофелины. Хорошо,
когда много помощников. И тут быстро управились.
Тетка давай на стол собирать. Все-таки праздник сегодня — День Победы! Хоть и не
радостный. Пришел ее Иван с войны израненный — да вскоре и умер. Опять она одна
с ребятишками осталась. Но вырастила, выучила, хоть и одна работала.
Отужинали. Праздник отметили. Пошли по домам.
А мне что-то в мозги вдарило. Уже темнело, я вспомнил, где всегда росли
подснежники. И побежал. Не ближнее место, на ночь глядя в лес бежать. Хмель в
голове. А про клещей энцефалитных даже и не вспомнил. В наших краях их сильно
много по весне бывает. Все нервное отделение заполняется «клещевиками».
Прошел с километр примерно. Уже еле различаю полевую дорожку. Чуть не на ощупь
иду. А до лесу еще столько же, там подснежники. Это за Понькинской гранью. За
большой поляной. Возле омутов на бугре, где мы в детстве с ребятами целыми днями
купались в этих холодных и чистых, да глубоких омутах. Разбежишься с крутого
берега и ныряешь в эту холодную бездну. А вода чистая-пречистая. Все дно видно,
как гольяны и пескари там резвятся. А мы тоже вроде гольянов были. Купались без
одежды, голенькие. В лесу никто не видит. Носимся по поляне нагишом, а потом
сигаем в воду. Аж обжигает тело от холодной родниковой воды.
Тут, возле этих омутов, и цвели по весне подснежники. Вот я вспомнил детство и
поперся на ночь глядя... Дурная башка, говорят, ногам покою не дает.
Прихожу на эту поляну уже в темноте. Хорошо, что каждый кустик, каждое дерево с
детства знаю. Почти наугад иду. Темень...
Какое-то трепетное волнение охватило. Тут должны цветы быть. Опустился на
колени, стал чуть ли не ползком осматривать этот бугор. Мне уж под пятьдесят
было.
И точно! Засветились, будто фонарики теплятся внутренним светом. Вот они,
сердешные! Красавцы пушистые! Стал рвать.
Вот еще группа. Вот еще. Уж ничего не вижу, кроме цветов. Мгла опустилась на
землю. Да еще кругом березы. Неба не видно. Нарвал цветов — окружался. Не знаю,
в какую сторону идти. Еле сориентировался.
Пришел в деревню часа через два. Как слепой иду. Ничего не вижу. Стучу к тетке
Прасковье. Они уж закрылись. Спать ложиться собираются.
— Ты это откуда? — спрашивают. Я захожу с цветами.
— Вот, — говорю, — решил с праздником поздравить, с Днем Победы! И подаю
половину. Остальные — маме.
— Ты че, сдурел, куда бегал!
— Ага, — говорю.
— С ума сошел! — А сама улыбается радостно. — Не боишься клещей-то.
— А я и забыл про них.
— Ну, спасибо, Леня... За цветы, за поздравление! Садись, посиди.
— Нет, я пойду. До свиданья.
И вышел опять в ночь. Со свету и вовсе черную... Лишь подснежники в руках да
россыпь звезд вверху едва светятся в этой кромешной тьме. Мерцают вверху, будто
души тех, кто не вернулся с войны.
Родник моего детства
Проснулся рано, в избе пахнет тестом; на столе корчага с мукой. Мама хлопочет
возле печи. Пощелкивают березовые поленья, озаряя ее лицо светом пламени...
Выхожу на крыльцо. За перелеском, на востоке, истаивают чуть алеющие облака.
Тихо. Собираю кисти и краски и за околицу — утро встречать.
А тут навстречу мне едет знакомый пенсионер. Бренчат на телеге пустые фляги — он
молоко у хозяек собирает. Здороваемся, улыбаемся друг дружке, и иду дальше.
Сворачиваю к пруду, что зеркалом лежит возле деревни. Шагаю вдоль нежно-зеленых
шлейфов тальниковых зарослей и останавливаюсь в молодом березовом колочке —
разворачиваю этюдник и принимаюсь работать.
Молодая звучная зелень, запахи цветущей земли, тополя, взметнувшие свои
руки-ветви — все это в бесконечной череде обновления радует взор, волнует и
одновременно тревожит — слишком быстро течет неумолимое время — не успеешь
налюбоваться, глянь, а уж отцвели и черемуха, и сирень, белым снегом осыпались
на землю лепестки яблонь.
Рядом со мной и по всей опушке разбежались огоньками-солнышками ярко-желтые
цветы горицвета. Они самые первые встречают восход солнца, повернули свои
золотистые венчики к огромному малиново-красному шару, поднимающемуся из-за
темно-синей кромки леса.
Ну, с Богом! Пора начинать работу. Зачерпываю воды из родника, что рядом
размывает берега, образуя омутки, где мы со сверстниками гольянов да карасей
ловили кто решетом, а кто майкой, завязав ее с одной стороны узлом. Теперь этот
овражек стал каким-то мелким, зарос осокой, и вода в нем только на самом дне
чуть поблескивает, но вода чистая — каждую травинку-былинку видно. Зачерпнул я
ладонью и попил... Вода оказалась очень вкусная. Поплескал на лицо — как обожгло
вначале! И тут же разлилось приятное тепло. Будто и душа оттаяла...
Попьешь водицы да умоешься из родника детства, и снова ты полон сил. Будто и нет
на тебе груза прожитых лет.
Снова хочется верить и жить...
|
|
 |
|
 |
|