|
|
|
|
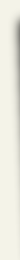 |

|
|
|
Тени, образы и вехи
Сергей Платонов (литературный псевдоним Сергей Платон) живет в Екатеринбурге. Он
профессиональный актер, режиссер, педагог — всегда в поиске на нелегкой стезе
искусства. Учился на отделении актеров театра драмы и кино в Ярославском
государственном театральном институте и на режиссерском отделении Театрального
института имени Бориса Щукина. Преподавал практическую режиссуру в
Екатеринбургском государственном театральном институте. Поставил несколько
спектаклей, выпустил ряд книжек прозы, куда вошли, по его словам, «рассказики,
эссе, миниатюры, записки, прочие короткие тексты».
Сергей финалист Всероссийского драматургического конкурса «Действующие лица»,
литературного конкурса «Белый шкаф», «Каверинского литературного конкурса».
В «Проталине» был опубликован его рассказ «Cygnus — русское отражение». И вот
новые произведения этого автора.
Майский снег
Пушистый, мягкий, розовый…
Теплый майский снегопад в Свердловске 1965 года.
Смотрю на старую фотографию и прекрасно понимаю, что это же нисколько не
выцветшие краски! Это же реальная цветовая гамма того самого времени! Пастельная
живопись снежных мазков, случайный фоновый оранж трамвая, желтая капля фонаря,
густо присыпанная снежком, будто солью. Рядом почти наголо постриженная акация,
фасадная охра хрущевок, расчерченное белой пешеходной зеброй сизое зеркало
асфальта.
Мне кажется, я из всего из этого родился.
А в центре фотки — женская фигурка с сумкой. Мама? Плащ, косынка, туфли с
каблучками. Все в гамме времени, все та же приглушенная зелень, охра и немного
розового. Да и снег летит такой же, охристо-зелено-розовый.
Могло же так случиться, что именно она прошла тогда перед объективом? На обороте
написано: «Май, 1965». Изумительная картинка, истинный портрет исчезнувшей
эпохи. Через два месяца после этой съемки я появился в этом городе.
Сырк
У забора Дендрологического парка остывающим летним вечером я обнаружил
скиталицу. По ее виду и словам я понял, что она не по одному кругу моталась.
Рядом стоял парень, щуря лукавые глаза, аккуратно сплевывая в сторону ограды,
стараясь не задеть плевками прутья кованой решетки. Это был очередной «толмач».
Он взглянул на меня и объяснил, что на втором круге поймал эту скиталицу.
Оказалось, что крохотная чувашская бабушка долго блуждала в уральском
мегаполисе. С утра шла в церковь и все время попадала в цирк. Услужливые
горожане весь день направляли, пальцем тыкали, руками показывали, быстро
объясняли, даже рисовали на бумажке бабушкин маршрут. Она совсем обалдела от
жары и пыли, от общего доброго внимания и какой-то мистической несбыточности
своей попасть туда, куда просила душа. Уже кругов пятнадцать по центру намотала,
проехалась в маршрутке, на трамвае, на метро. Сплошные фокусы и чудеса! Все
дороги города приводили к цирку!
— Сырк! Сырк! Мне в сырк! В сыркву мне надо!
— В церковь, что ли? — переспросил спаситель, смеясь. Пусть выглядел этот парень
с нашей точки зрения несимпатичным, но только он и понял, куда надо этой
скиталице.
— Сырк! Сырк! — отрадно закивала бабуля.
— Пойдемте, мама. Отведу! — неожиданно и совсем серьезно сказал парень.
Журавли
— Высота, не высота... осень… даль какая-то... Вот водка мне нужна такая...
Высота? Или даль? Называется она... как-то красиво...
— Журавли?
— Точно! Две бутылки.
Только что брал основной продукт в соседнем гастрономе под названием «Исетский»
и услышал вот этот разговор.
Но как же Настя, грушевидная, редко приветливая продавщица винного отдела,
пунцовое лицо которой ярко отражает все ее лихие сорок лет, сумела разом
догадаться, о чем же попросил очень стесняющийся мужичок в несвежем адидасовском
костюме, промокшем на плечах от снега? Ну, Настасья!
Даль, осень, мокрый город.
Конечно, «Журавли»... Действительно, красиво...
Исторический максимум
В екатеринбургском Доме Метенкова этой ночью с 16 на 17 июля дышалось тяжко.
Глотаешь жаркий воздух полной грудью и не можешь продохнуть, такой тягучий дух
висел во всем особняке, тяжелый, маслянистый и невкусный.
Я на втором этаже особняка из девятнадцатого века. Второй этаж — на каменной
основе первого, наверху жестяная крыша. Такие дома в свое время назывались
полукаменными.
Таких строений пока по городу живет еще немало, хоть их и резво выкорчевывали в
ельцинские времена, да и в росселевские вытравляли, да и в нынешние тоже
продолжают изживать из городской среды. Оставшиеся еще крепко цепляются
добротными фундаментами за землю. Днем они раскаляются, а к ночи остывают, как
забытые угли. На всем Урале буйствует многонедельная засуха, а в этом городе
установился какой-то уж совсем металлургический зной. Первая новость у всех
радиостанций — исторический максимум температур.
Лето. Народ вспотел, разделся по максимуму. Кто как мог. Мелькают шорты, бриджи,
джинсы. А по сути-то, обрядился народ в те же самые сарафаны, кафтаны и прочие
тряпки. Разыскивая тень, снуют по улицам Екатеринбурга сотни тысяч новых
модников. Оно на первый взгляд смешно, но зато не убийственно жарко. Все
серьезно озабоченные, маячат перед Домом Метенкова, в этот дом пируэт моей
биографии воткнул меня служить охранником.
А вот и не охранником, а сторожем! Этак-то точнее. Почитай вот весь июль
хожу-сторожу. Слово «сторож» уютное, мирное, несколько пенсионное, мне в самый
раз. Какая вот разница, где мне ходить ночами из угла в угол, в своей пятиэтажке
или в Доме Метенкова? А слово «охранник» воинственное, бойцовское, музейной
реальности чуждое.
Книжки, как известно, не кормят. А если кормят, то не авторов. А писать надо.
Есть такое слово — надо, даже если ты не графоман, а графофоб, и пишешь только
то, что очень-очень надо. А в музее сторожам за сутки хождений из угла в угол
положено жалование. Радость-то какая!
Вот и хожу себе, сторожу. Понятным делом занят.
В должностной инструкции твердо прописано: «без права сна», однако раскладушка
полагается. Нюанс профессии, попробуй, поскачи тут сутки на ногах, нет- нет, а
вытянуться нужно. Особенно в такой-то духоте.
Ночь пропитывает тишиной интерьеры и мысли. Под самым потолком постанывает
плоский кондиционер, какая-никакая, а прохлада. Ночь в самом центре
Екатеринбурга, ночь в музее. Двери заперты, книга дочитана, дом остывает. В
форточки течет уже не зной, а легкий теплый ветерок, и вместе с ним порою
долетает уличный смех запоздалых гуляк, светятся зеленые дежурки тусклым словом
«выход», изредка за окнами, разрывая с оглушительным ревом воздух, проносятся
байкеры. Ну, правда же, бесятся! «Озоруют, шельмы», — сказали бы о них лет сто
назад.
Какой тут сон, когда аж стекла дребезжат? Все по инструкции. Рядовая ночь без
права сна.
Всегда так и было, но не так, как сейчас.
А мог бы догадаться, посмотреть на календарь, ведь этой самой ночью, почти сотню
лет назад, здесь у нас убили отрока вместе со всей его семьей, с родителями и
сестрами. Расстреляли царскую семью тут, у подножия Вознесенской горки, в
Ипатьевском доме, в двух шагах от Метенковского.
Говорят, семья «пошла ко сну» в 22.30, и расстрельная команда собралась примерно
в то же время. А у меня в музее этой ночью именно в половине одиннадцатого
сломался кондиционер. Пыхтел, пыхтел и отключился напрочь, оставив дому липкий
зной.
Какой тут сон? Сиди теперь, кури и думай. Не думай, чувствуй. А о чем, зачем? Да
вот хотя бы о том, о чем ОН думал-чувствовал той душной июльской ночью под
редкий скрип телег, вскрики озорников и подгулявших обывателей.
Седьмое ноября
Ноябрьский вечер накрыл двор темнотой как-то сразу, будто бы невидимый
дяденька-великан выключил день. Двор изменился неузнаваемо — погасли все краски.
Точно так же преображалась и наша белая комната, когда мама щелкала
выключателем, уложив меня в белоснежную постель с огромной подушкой в
накрахмаленной наволочке, с такой же жестковатой и прохладной простыней, под
тяжелую перину, обряженную в накрахмаленный пододеяльник. Очертания мебели были
на месте, но за ними висела таинственная чернота. Было страшно и интересно
смотреть в нее перед сном. Изредка за окном проезжала машина, темнота тогда
съеживалась от огней фар, уползала под стол и за шкаф, пряталась за комодом и
печкой, возвратив на секунду наши белые известковые стены и потолок.
Я представлял себя маленьким белым медведем из мультика, устроившимся на ночлег
в сугробе. Накрывался одеялом с головой, наблюдая в щелочку за непонятной
темнотой, как зверь из норки. Она была живая, эта темнота. В ней что-то где-то
там происходило. Мне было боязно и сладко думать, что «что-то-где-то-там»
все-таки есть. Я, семилетний, уже знал, что в темноте бывают звезды, месяц,
северное сияние. Ничего такого домашняя тьма не показывала, однако я был уверен,
что она — принадлежащая нам с мамой часть большого темного пространства, и даже
знал, как оно называется — космос.
Вот в этот вечер, седьмого ноября, я вдруг почувствовал, как космос воцарился не
только во дворе, но и во всем городе.
Минувший праздничный день стал прошлым, будто не было его. Там же остались
флаги, шарики и транспаранты «демонстрации трудящихся» у заводской проходной,
веселые шумные компании, поющие что-то хорошее под аккордеоны и гитары. Пропала
удивительная радость от первой в моей жизни поздравительной открытки со
сказочными башнями кремля. Моя личная открыточка была устроена в надежном месте
рядом с другими за стеклом серванта, куда их было принято выставлять рядком к
каждому празднику. Я решил, что подробно ее разгляжу и порадуюсь завтра при
свете. Завтра же ожидалось еще много праздничного: нужно было придумать, как
поступить с большой конфетой «Гулливер» в потрясающем фантике, где долговязый
дядька тянул за собой на веревочках крохотные корабли. Съесть ее было жалко,
хоть и очень хотелось. Можно было поесть зефир, вон как много его надарили, а
тем временем нарисовать конфету либо срисовать с фантика кораблики. Но все это —
завтра.
Снова и снова памятью своей я ищу себя того, семилетнего, лежащего в этой своей
уютной белоснежной норке.
День был странным. Домой идти было рано, а все разбежались. Целый час еще можно
гулять, а качели и горка пустые. Праздник вообще-то не кончился, за окошками —
музыка, крики и свет. Наш дом был на берегу реки Исети, в нем жили в основном
люди завода и праздновали всегда весело, шумно и долго.
Интересная цифра — семь. Весь день я разглядывал на открытках, плакатах и
транспарантах красивые красные семерки.
Спрятав санки под горкой, надумал сходить к старому тополю и заглянуть в его
темное дупло, поскольку давно собирался, да и узнать, наконец, кто там живет. По
дороге передумал, поднялся на мост, построенный когда-то, как говорят, пленными
немцами, которых я никогда не видел. За деревянными перилами белело большое
пространство замерзшей речки. А над ней и всем городом чернело небо из той самой
космической тьмы с мелкими звездами.
Мост был пуст. На другом берегу в темноте пока неизведанного парка Маяковского
растворялись фигурки прохожих. Я обрадовался и прокричал:
— Эй ты, космос!
Мне казалось, что и он посмотрел на меня и обрадовался. Это было естественно,
праздник же. Я ощутил спокойное ликование оттого, что я, оказывается, — в нем, и
мне в нем не страшно, а радостно. Он как бы и снаружи, и внутри меня. Он
приветливый, добрый. Он мой. Захотелось ему и себе сделать что-то хорошее,
что-нибудь подарить. Тут же выдумалась семерка.
Идея нарисовать большущую цифру семь прямо на речном льду, чтоб она была хорошо
видна и с моста, и из космоса, показалась мне великолепной. Лед же был очень
ровный, как белый лист. Рисовать начал широкой фанерной лопатой, которой
соседские мужики прихлопывали горку, сбрасывали снег с крыши и в сильные
снегопады делали красивые тропинки во дворе. Так же, как и дядьки, двигал ее
впереди себя, отгребая пушок снега, и снова ликовал теперь уже от почти ровных
линий, сложившихся в гигантскую цифру.
Под тонким слоем снега был такой же тонкий серый лед. Когда я останавливался,
чтобы развернуться, обдумывая композицию рисунка, лед похрустывал и прогибался.
В валенках прохладно хлюпала неизвестно откуда взявшаяся вода, а края недавно
идеальных линий разъедали темные водяные пятна. Только что нарисованная семерка
тонула! С моста в мою сторону что-то кричали, но крики прохожих глушил
отвратительный ледяной хруст. Его-то я и испугался. Не мокрых валенок, не
увеличивающейся лужи, в которой все это время стоял, а именно рычания реки на
меня, бестолкового.
Сбежать из центра речки оказалось просто, помогли лопата и способ ее применения,
подсмотренный у дворовых мужиков. На берегу меня встречали еще один испуг и тут
же радость. Трое высоченных парней были, как Гулливеры с конфеты. Они захохотали
и тут же схватили и поволокли меня домой. Мама ругалась, как обычно, не сердито
и не громко. Ей же никто не рассказал, где, как и почему можно промочить ноги в
двадцатиградусный мороз. Сам я молчал как партизан. Сидел в сугробе своей
перины, шевелил отогретыми пальцами ног в колючих шерстяных носках.
Почти засыпая, упорно вглядываясь в комнатную темноту, я вдруг припомнил, как на
мгновение оглянулся, выбравшись на берег. Да, моя прекрасная семерка утонула
целиком. На ее месте образовалось круглое пятно зеркально-черной воды, в котором
отразились звезды и луна. Вода, оказывается, тоже бывает темной, она тоже часть
космоса.
Места, где память оживает
Ах, как преобразился Екатеринбург!
Похорошел, отстроился всего-то за десяток с небольшим относительно спокойных и
благополучных лет нового века. На месте жутких вековых трущоб, помоек, пустырей,
деревянных заборов и дряхлых «избушек на курьих ножках» неожиданно динамично
вытянулись острые высотки, засверкали огромные окна и зеркальные витрины,
запестрели рекламные конструкции. В общем, буйно проросла новейшая
торгово-офисная архитектура. Расцвел город! Приятно посмотреть: стекло, металл,
асфальт, бетон, брусчатка. Свежо и аккуратно. Любо-дорого окинуть взором любой
район, что центр, что окраины. Хорош город, хорош! Как, впрочем, и другие
города-миллионники, ревностно оспаривающие друг у друга бумажный титул «третья
столица».
Ох, как же Екатеринбург обезобразился!
Нет, ни в коем случае нельзя впихивать пивной ларек-стекляшку в исторически
обжитое музейное пространство, это вам убежденно скажет любой первокурсник
архитектурной академии. Непозволительно смесью хай-тека и рекламного авангарда
уродовать когда-то гармоничные ландшафты трехсотлетнего города. Навтыкали рядом
с кирпичными особняками тощих свечей-высоток, зеркальных кубиков и цилиндров, аж
в глазах рябит. Жуть!
Вчера сидел-корпел на своей творческой зеленой кухне, а когда окончательно
заплесневел над недописанными текстами, застрял в недодуманных мыслях, закис
неясными идеями, то вдруг заставил себя встать и отправиться на прогулку. Для
моциона причин не было никаких, но отправился куда глаза глядят. Обычно я хожу в
места, которые всегда вещают мне о чем-то важном, но неясно и невпрямь. Любой
уголок из-за редкости посещения становится мистическим при каждой встрече. Туда
ходить полезно.
Итак, иду. Конечно же, не в центр. Конечно, к пивзаводу, которого уже нет. Здесь
теперь развязка многоуровневая и строительный супермаркет. По телевизору
хвалились, мол, скоро сляпают на этом месте еще и новое многополосное шоссе.
Звучит прогрессивно, инфантильную гордость пробуждает за регион, за город, за
страну. Причастность чувствую. Я же здесь живу, а тут улучшения теперь кругом,
сплошные преобразования. Часто корявые и безобразные, но они много краше бывших
смрадных пустырей, унылых помоек и безысходно серых заборов. И кругом эти
высокие мачтовые фонари! Ночами светлый развязочный серпантин отдает чем-то
московским. Здесь начинается дорога к аэропорту, дорога в будущее, дорога в мир.
Опять усматриваю знаки. Вот здесь, на этом самом месте, была куцая аллейка с
цементным памятником забытому герою-пионеру. И меня, пятиклашку, именно здесь
приняли в пионеры когда-то. Прошел рядом, ясно вспомнил так и не нашедший ответа
вопрос тех лет. Если пионер — всем ребятам пример, а мы теперь все — пионеры, мы
что, примеры друг для друга? Вот не пошел бы я гулять по прошлому, так и не
припомнил бы всего этого никогда.
Иду по памятным местам и просто кручу головой, проблески других времен
улавливаю. Вон там, напротив парка, у завода, стоял ангар, куда из вагонов
сгружали тонны ячменя. Смотри-ка ты, ангара нет, а старый грузовой вагон
остался. Сразу его и не заметишь, зарос кустами и деревьями. Дурашливыми
школьниками мы ходили купаться в этом ячмене. Беззаботные головы потом трещали
от ячменного духа, язык не слушался, и ноги заплетались, становились
слабенькими, ватными. Все ясно, первый хмель.
А вот тут, с краю парка, тянулись когда-то рельсы Детской железной дороги,
потрясшей меня первым в жизни настоящим путешествием. Как же я тогда был
счастлив! Вот и их разбирают. Хмурые мужики в оранжевых жилетах отрывают ржавые
рельсы, выкорчевывают гнилые шпалы, рушат крохотные станции. Не зря пришел. Как
выясняется, пришел проститься. Теперь понятно, почему многополосное шоссе. А я
все думал, где же место взять для дополнительных полос? Так вот в чем дело,
полосы, наверное, улягутся на место ДЖД.
Через месяцок-другой этого пространства будет уже не узнать. Время окончательно
закатает детскую память под асфальт и станет ежедневно шлифовать ее скоростным
автопотоком.
Мое останется со мной. Особо радоваться нечему — многое из задуманного так и
осталось невоплощенным. Но жизнь не дает на этом остановиться. В ней всегда есть
проблески будущего. Вот и Детская железная дорога… попрощались мы с ней. А
буквально в двух шагах сейчас от меня — и новенькая насыпь, и глянцевые рельсы,
и белая куча бетонных шпал.
Безысходность
Во многих уральских городах часто встречаю жутковатые дома-пятиэтажки с
балконными дверями без балконов с низкими решетками внизу двери. Екатеринбург не
исключение.
Представляете? Вот он фасад, на котором рядом с окнами есть застекленные, якобы
балконные двери, через которые не выйти. Такой дом выглядит не столько глупо,
сколько драматично и даже жутковато. Нет, это не французский стиль в
архитектуре. Никуда не ведущая дверь за низкой решеткой — нехитрая метафора
наших здешних надежд и возможностей. Двери есть, а выйти некуда.
Модерация образа
Вот и я получил последний в жизни паспорт. В смысле, бессрочный. Не без
выкрутасов...
Измученная собственной свирепостью и бестолковостью «контингента», басовитая, но
визгливая паспортистка средних лет (ровесница!) вежливо и крепко выругала меня
через окно своей норы в офисе Службы регистрации граждан.
— Не годятся эти фотки в паспорт, гражданин! Я их у вас не принимаю! На них все
не по правилам. Идите, фоткайтесь опять. Снимайтесь без наклона головы. А то вы
тут на какого-то киноартиста походите, — сказала приемщица, будто оскорбила.
Я искренне сконфузился. Да, стыдно в жизни на актера походить. И впрямь, артист.
Натужный артистический портрет в фойе провинциального театра. Конечно,
перефоткаюсь, — подумал.
Второй дубль незапланированной паспортной фотосессии получился еще неудачнее.
Откуда-то взялся здоровенный подбородок, выпучились и помельчали глаза, жирно
проступила легкая небритость, тонко вытянулась шея, излишняя фронтальная заливка
светом очень по-своему перекомпоновала географию лица.
Вот это образ! Краше в гроб кладут!
— Отлично! То, что надо! — подобрела привередливая паспортистка. — Немножко не
походите, но возьму эту, в ней все по правилам.
Хотел было с этой судьбоносной теткой потягаться, возразить, поспорить. В
первом-то портрете пусть изнуренный, но живой человек, во втором — какая
карикатура, будто лом проглотил. А пригляделся к желчному лицу усталой «модераторши»
наших паспортных образов и понял: нет, не стану спорить.
Вот и меня отмодерировали. Останусь непохожим на себя, зато по правилам.
|
|
 |
|
 |
|