|
|
|
|
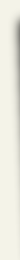 |

|
|
|
Блуждания в поисках потерянной мечты
Валерия Серебренникова хорошо знают в Тюмени по его неуемной любви к музыке. Его
работа многогранна, он автор шести нотных сборников, выступает с сольными
концертами по области и за ее пределами, как педагог воспитал немало юных
талантов.
Вот вехи его творческого пути. Сначала он окончил Тюменское училище искусств
(1977), потом Челябинский государственный институт культуры (1985). Руководил
художественной самодеятельностью на заводе медицинского оборудования и
инструментов, был учителем музыки в одной из школ Тюмени, преподавал сольфеджио
и руководил хоровыми коллективами в школе при училище искусств, работал
хормейстером в хоровой академической капелле Боровской птицефабрики. С 1986 года
как автор программ и организатор съемок сотрудничал с тюменским телевидением,
снял несколько музыкальных клипов с участием своих воспитанников.
Первый его нотный сборник вышел в 1993 году в Москве, и с той поры он активно
начал заниматься композиторской деятельностью. В его творческом багаже более
трехсот произведений. Это хоры для детей и взрослых, популярные песни, романсы,
музыка к спектаклям, инструментальные произведения, духовная хоровая музыка. Его
произведения исполняют коллективы Мегиона, Ишима, Тюмени и других городов.
Со всех уголков России приходят к нему письма от педагогов, руководителей
ансамблей и студий. Произведения Серебренникова звучали в программах ОРТ
«Утренняя звезда», радио «Маяк». С концертами он объехал практически все города
области. Выступал в Кургане, Екатеринбурге, Ирбите, были поездки в Сочи и Ялту
(«Артек»). Во многом ему помогала творческая дружба с хорошими поэтами.
Два раза в год в областном центре проходят его большие авторские концерты. С
1999 года он ежегодно проводит фестивали-акции «Белой птицы крыло» в поддержку
музыкантов — инвалидов по зрению.
Валерий Серебренников имеет грамоты от областной и городской Дум, от губернатора
Тюменской области, от Министерства культуры России. Он награжден знаком «За
заслуги в культуре», ему присуждена тюменская независимая премия «Мегаполис» «За
вклад в развитие города». В 2013 году он получил билет члена Союза композиторов.
В том же 2013 году Департамент культуры Тюменской области направил в
Министерство культуры Российской Федерации ходатайство о присвоении Валерию
Павловичу Серебренникову звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». Ответ на это ходатайство удивил всех, кто знаком с талантом
композитора: «Ходатайство рассмотрено и… оставлено без удовлетворения, так как
представление к указанной награде преждевременно». Без всякой мотивации. Вот так
Министерство культуры поздравило юбиляра в год его шестидесятилетия.
Я должен был стать
композитором
Сочинять я начал рано. Еще толком не зная нотной грамоты, пытался записывать на
бумажных обрывках, где наспех линовал линейки нотного стана.
Мечты многих моих сверстников, овеянные космической романтикой (уже полетел
Гагарин), не совпадали с моими мечтаниями.
Я точно знал, что буду композитором. У меня даже кличка в школе была —
композитор.
Муслим Магомаев, вспоминая свое детство, говорил, что он и думать не мог о
чем-то другом. Должен был идти по стопам деда, композитора.
Мой дед был краснодеревщик, мама — бухгалтер. Отца не было.
Рождение мечты, конечно же, шло от посыла мамы. Но это была только форма.
Содержание она дать не могла. Да и многое мне препятствовало. Я долго не мог
поступить в музыкальную школу. Хотя, может быть, именно этот факт и
способствовал развитию моей независимой фантазии.
Еще задолго до поступления в музыкальную школу был куплен баян, и я часами
выделывал на нем страшные «импровизации», которые вряд ли могли быть приятны
чужому уху. Благо слушателем была одна моя бабушка, и ее, видимо, это не
раздражало.
А еще я любил дирижировать. Жертвой моей практики была виниловая
пластинка-гигант «Сильва», выпущенная в 1960-е, доставалось ей здорово. Крутил
нещадно и, вооружившись карандашом, то бишь дирижерской палочкой, умучивал
воображаемый оркестр.
С четвертой попытки в школу я все же поступил и проучился три года. Как мне
думается, без особых успехов. Фантазии, которые бушевали в моем сознании, никоим
образом не стыковались с гаммами, этюдами, арпеджио.
С Урала мы переехали на север Тюменской области. Поселок только строился. В нем
было пятнадцать домов. Какая уж тут музыкальная школа! Я даже пропустил год
обучения в общеобразовательной школе, потому что не могли набрать девятый класс.
Мама, зная мою заветную мечту, купила фортепиано. Его специально привезли из
Тюмени, и оно было единственным в поселке.
Инструмент спасал меня от многих соблазнов, которые в этом возрасте весьма
присущи.
Самостоятельно занимаясь, я все же достиг определенного уровня, что дало мне
возможность хоть и не с первой попытки, но поступить в училище искусств на
хоровое отделение. Там я уже с первого курса смог заявить о себе как о человеке
играющем. И буквально сразу был приглашен в довольно солидный по тем временам
эстрадный коллектив «Прометей». И получил ставку пианиста!
Нот мне не давали. Я редко получал расписанные функции. И в отличие от духовиков
не был поставлен в жесткие рамки партитур. Это тоже пробуждало фантазию. Правда,
я не дорожил своим пребыванием в этом коллективе и через год ушел в новую
молодежную группу, где оплаты не получал. У меня был один юношеский азарт. И шло
развитие ВИА.
Вообще я не оценивал многое из того, что случайно давалось мне, шло прямо в
руки.
Я приехал к профессору Казачкову в Казань. Уже в годах, но скорый на ходьбу, в
беретике (таким я увидел его впервые), Семен Абрамович побеседовал со мной,
проверил навыки и назначил урок. До начала экзаменов в консерваторию оставалась
неделя.
После первого занятия последовало второе, и так каждый день. Казачков серьезно
готовил меня к поступлению.
На последнем занятии пожал руку и сказал:
— Сдавай документы! Будешь учиться у меня.
Как когда-то Евсей Натанович Шапиро в Тюмени, так и сейчас профессор Казачков
давал мне гарантированную путевку в специальность!
Какая-та непонятная пружина сработала во мне. Я, придя в гостиницу, вдруг собрал
чемодан и уехал в Москву. Может, загорелось желание все же поступить на
композиторское в Гнесинку? Трудно сейчас дать ответ…
Я подходил к этому знаменитому московскому вузу сквозь какофонию звучащих изо
всех окон инструментов и голосов. С каждым шагом во мне росло тревожное сомнение
в собственных силах.
На консультацию педагога по композиции пришло человек десять. По легкому,
непринужденному общению было ясно, что у будущих абитуриентов с преподавателем
уже налажен какой-то контакт, что они его знают.
Я тихонько сел в сторонке. Педагог по очереди приглашал каждого к инструменту.
Просил поиграть приготовленное.
Я пропустил всех.
— А вы, молодой человек, тоже поступаете?
Голос педагога заставил кивнуть и выдавить:
— Да.
Я положил ноты на стол и на ватных ногах подошел к инструменту.
Конечно, я готовился. И специально к поступлению написал небольшую пьесу. Это
было обязательным условием.
После игры педагог долго молчал, затем спросил:
— Что вы закончили?
Мое дирижерско-хоровое не звучало авторитетно. Сюда поступали с более сильной
базой.
Он опять помолчал и раздельно проговорил:
— Да... Трудно будет. Несомненно, есть. Глубоко. Тащить это? Есть ли смысл, ведь
вам не восемнадцать…
Да, то, что «сидело» во мне, было действительно глубоко. Оно во все годы
вырывалось наружу помимо моей воли. Я не мог не писать. Если бы кто знал, какие
стихии разворачивались в моем сознании! Я засыпал и просыпался с бушующими
страстями оркестровых партий. Не хватало знаний и учителей. Меня кидали от
педагога к педагогу. И вообще, видимо, считали не очень перспективным. Я
карабкался большей частью сам. Покупал книги. Сидел за инструментом. А какие бои
я выдерживал с пианистами за классы на четвертом этаже училища, где стояли
рояли! Мне помогла во многом Елена Владимировна Раскина. Она приехала работать в
наше училище после окончания композиторского факультета Уральской консерватории
и пестовала меня. Вот такими были «мои университеты», и только чудо могло помочь
поступить в Москве.
В тот раз чуда не произошло. Еще один шанс появился несколько позже.
Возвратившись в Тюмень, я стал преподавать в общеобразовательной школе, применяя
набиравшую популярность методику Дмитрия Кабалевского. Ему я послал нескольких
своих детских песен, не очень-то рассчитывая на ответ. Но ответ пришел, очень
короткий. Это был номер телефона и приписка: «Позвоните!»
Я позвонил и услышал знакомый по телеэкрану и радио голос мастера.
Мы начали разговор, и вскоре Дмитрий Борисович спросил, есть ли у меня
возможность жить в Москве.
— Найдите возможность жить, — продолжал он, — тогда мы решим вопрос с вашим
поступлением в Московскую консерваторию.
Посылая ноты, я ни словом не обмолвился о желании учиться дальше. Видимо, в
характере композитора стойко проявлялся педагог. Ведь даже то, что он, бросив
работу над сочинениями, ушел целиком в разработку новой методики для школ,
понимая важность момента для страны, говорит о многом. Так и в моем случае. Он
брался решать мои проблемы.
Это был еще один шанс, который, конечно же, в очередной раз был упущен. В Москву
я не поехал.
Так уж суждено было мне шагать по судьбе — не оценивать предложенное, а потом
выкарабкиваться самостоятельно.
Я дерзнул упрочить свое композиторское положение и добиться членства в Союзе
композиторов. Несколько лет назад приехал в Екатеринбург в местное отделение
Союза со своими песнями, со своим хоровым и инструментальным багажом.
Договорился с концертмейстером для аккомпанирования романсов.
Собралась коллегия. Человек двадцать. Все малознакомые. Рассчитывать я мог
только на поддержку Олега Яковлевича Ниренбурга, которому я когда-то показывал
свои опусы, но, к сожалению, теперь его уже не было в живых.
Я раздал ноты. Торжественно разложил свои ярко оформленные сборники, их у меня
на тот момент было пять. Когда все было представлено, начали говорить. Но про
меня мало. Больше между собой и о себе. Тон разговора постепенно повышался до
фортиссимо и завершился несовершенным кадансом. Публика поругалась и
разбежалась…
Председатель подошел ко мне, извинился, и, указывая на мои сборники, сказал:
— Зачем вам мы, у вас все есть!
Помню более давнюю свою поездку в Екатеринбург. Был большой композиторский
форум, и мы, тюменские, Юрий Клепалов, Владимир Кайгородов и я были приглашены,
а точнее сказать, напросились. Вот тогда-то я случайно открыл дверь одного
кабинета и в тускло освещенном помещении увидел стеллажи, плотно забитые
папками. Ленты на некоторых папках были завязаны по самые кончики, столько в них
помещалось рукописей. Сквозняк от открытой двери принес щекочущий запах бумажной
пыли.
Это была библиотека Союза композиторов.
Архив сильно впечатлил меня. Еще не был издан ни один мой сборник, но я тогда с
неистовой дерзостью сказал себе, что мои ноты никогда не будут лежать
невостребованными.
Если ты пишешь, тебя должны исполнять.
А писать, как говорят, в стол или для библиотеки — какая радость от этого?
Меня исполняют. И я безумно счастлив, но иногда задумываюсь: а был бы я,
достигнув официальной высокой образованности, таким счастливым? Не знаю.
28 февраля 2013 года, в свой шестидесятилетний юбилей, я получил билет Союза
композиторов России.
Как я снимался в кино
Мы идем с мамой по солнечной набережной Ялты. Мне семь лет, я уминаю совершенно
неведомый мне продукт — сахарную вату. Мне помнится, что она тогда была в форме
кирпичиков, желтого или белого цвета. Это теперь она продается в виде шара на
палочке.
Чей-то громкий голос привлекает наше внимание.
Набирают массовку для съемки фильма.
Наверняка у мамы появилось желание запечатлеть сына на экране, и она подвела
меня к месту съемок.
Задача была простая: создать толпу людей. Для этого нас поставили с двух сторон,
и по команде режиссера мы должны были идти навстречу друг другу.
Режиссер дает наставления:
— В камеру не смотреть!
Звучит команда. Мы делаем первые шаги, и вдруг я слышу мамин голос. Она окликает
меня.
Я поворачиваю голову, а она стоит как раз рядом с камерой и улыбается. Я ей
улыбаюсь в ответ.
— Стоп, — кричит режиссер, останавливая нас на полушаге. — Повторяю еще раз, в
камеру не смотрим!
Нас вновь разводят по местам. Но до его команды мама успевает подбежать ко мне и
говорит:
— Я встану чуть подальше. Ты не смотри на меня, просто помаши рукой.
Я так и делаю. Мы идем, и я машу.
Опять стоп. Это, видно, из-за меня.
Нас разводят. И вновь мама бежит ко мне, берет за руку и тащит в первый ряд,
объясняя:
— Тебя совсем не видно в толпе, встань здесь! — И притыкает меня к краю первой
колонны.
В очередной раз звучит: «Мотор!», и я, уже растерянный от команд режиссера и
маминых наставлений, попадаю в какое-то другое измерение. Мы смешиваемся с
идущей на нас встречной группой. Мне наступают на пятки, и я теряю сандалию. Тут
же нахожу ее, выбираюсь из толпы и вновь слышу голос режиссера, призывающего
всех встать на исходную позицию.
Но все уже кончено Маме перестала нравиться затея со съемкой, и мы уходим,
оставляя массовку без будущего артиста и режиссера.
По возвращении домой в Ирбит в нашем дворе из простого, неотесанного горбыля
появилось нечто среднее между навесом и сараем, где и стали разыгрываться мои
первые постановки.
А через много лет, уже живя в Тюмени, на местной студии я снял несколько детских
музыкальных программ и видеоклипов.
Я часто задумываюсь о моих детских творческих исканиях — откуда они?
Дом на окраине небольшого уральского городка, простое дворовое окружение. Кино
здесь редкость, а театр — в нем я, помню, может, раза два-три был за все
детство. Первый проигрыватель и первые пластинки у меня появились лет в десять.
Вот и весь мой мир.
Бабушку поющей я не помню. Мама иногда пела, гладя белье, но узнать песню можно
было только по словам, с мелодией у нее не получалось.
Но надо сказать, что в моих творческих исканиях большую роль все-таки сыграла
мама. Это она сама с небольшой помощью соседей-мужиков соорудила театр-сарай,
угадывая мою тягу к творчеству. Я выхватываю из памяти моменты этого
строительства — вываливают горбыль, мама поднимает очередную доску и
прикладывает к уже прибитой, улыбается.
И, возможно, следуя своей нереализованной в детстве мечте, она хочет воплотить
что-то самое заветное в своем сыне.
Таежный запах леушинки
Мы приехали в Тюменскую область, как и многие, наверное, за «длинным» рублем.
Небольшой поселок Леушинка. Несколько рядов улиц с одноэтажными, на двух хозяев,
домами. Центрального электроснабжения не было. Жизнь поселку давал дизельный
солярный движок электростанции. Тарахтение движка было далеко слышно, и я,
будучи подростком, занимаясь чем-то своим, нет-нет да прислушивался к его
работе, словно к своему сердцу, радовался его размеренной четкости. Иной раз
ритм машины давал сбой. И хорошо, если это случалось днем. Ночью чинить машину
не всегда удавалось, и до утра поселок поглощала таежная тьма.
Приехав с Большой земли троечником, да еще и по точным предметам, в местной
школе я поднялся до ударника.
Я полюбил математику и особенно геометрию. Казалось, что задачи решаются сами по
себе. Успехи, впрочем, были не только у меня, у всего класса. Секрет хорошей
учебы был прост. Наш педагог, увы, я забыл ее имя-отчество, условно делила урок
на три части. В первой объясняла новый материал, вторая часть была отдана нам
для самостоятельной работы, то бишь домашнего задания. Эти первые две части по
времени пролетали незаметно. Выполняя задание, а обязательным условием было
получить хорошую оценку, мы ждали третью часть. Она была порой не очень
продолжительной, но увлекательной. Нам читали книгу. Это были всегда интересные
приключения и обязательно с продолжением. Продолжения шли из урока в урок. А в
журнале против наших фамилий рядком выстраивались четверки и пятерки.
В Леушинке в 13 лет я впервые получил заработную плату за свою профессиональную
работу. Я руководил хором.
Учителя готовили концерт и меня попросили аккомпанировать. А так как никто из
коллектива толком не мог дать даже элементарный знак к вступлению, то этим
пришлось заниматься мне, вчерашнему третьекласснику музыкальной школы с Большой
земли.
Мы хорошо выступили, и мне подарили часы.
Хотели — деньги, но мама сказала, что лучше подарок.
В поселке прожили полгода. Родителям пришло предложение осваивать новые районы
Севера.
Это короткое время мне дорого как память о моих внезапных школьных успехах,
сопровождаемых ежесуточной работой движка электростанции, близким запахом тайги,
первой полученной зарплатой и всем тем, что я ношу глубоко в сердце.
Не все ложится на бумагу, есть то, что ты можешь доверить только самому себе.
Чем смог, я поделился…
Тапер
Это был мой первый Новый год в поселке.
Кто-то прознал, что я играю на баяне, и меня, совсем еще пацана, пригласили на
молодежную вечеринку.
Мама по такому случаю купила мне корочки — французские туфли. Необычайно легкие,
для танцев и сцены.
Эти туфли я не взял с собой как вторую обувь, пошел в них ночью, по морозу, а
было градусов тридцать.
Ноги скользили, я несколько раз падал. Обувь совершенно не была предназначена
для ходьбы по снегу. Но ведь искусство требует жертв!
В клубе, обычной деревяшке, было тепло.
Принесли проигрыватель. Нашлось две или три пластинки. Их и крутили.
— Да ну эту музыку, надоела! — сказал одна из девушек, — пусть нам баянист
поиграет.
Я стал играть.
— А эту знаешь, а эту… — посыпались заказы от девчат.
Что-то я знал, а какие-то названия слышал впервые, но играл все. Мне напевали, я
тут же подбирал, перевирал, конечно. Но в целом старался держать мелодии
правильно.
Опять включили радиолу.
— Выключайте, — потребовали уже мои почитатели, — играй, Валера!
И я играл. Часа четыре. Желание публики подогревало мой безудержный азарт. И
остановился я только тогда, когда уже выбился из сил. Ремнем я до крови растер
кожу запястья руки, тянувшей мех.
Под утро все стали расходиться.
Меня вызвалась проводить девушка, недавно приехавшая с Большой земли,
учительница математики, а с этого вечера — моя поклонница.
Она бережно довела меня, отчаянно скользившего в модных корочках, до дома. А
через какое-то время, когда я пришел в девятый класс, так же бережно уберегала
меня от двоек, ставила тройки по математике. Это все, что она могла сделать в
благодарность за мое искусство…
Занавески
Наша неспешная провинциальная жизнь в один из февральских дней была потревожена
внезапным появлением столичной гостьи, моей тетки Вали.
Она много лет не навещала свою маму, мою бабушку, радуя ее лишь редкими
письмами, а меня — посылками, где обязательным дополнением к каким-то вещам были
сладости. Пачки две вафель, зефир. Я этого не мог видеть в своем небольшом
уральском городке.
Статная, высокая, улыбающаяся, она возникла на пороге в клубах морозного
воздуха. И мне показалось, что воздух пахнет зефиром. Но это играло мое
воображение. Подарков на этот раз не было.
Тетка приехала налегке. Да и особых денег, по-моему, у нее тоже не было. Мы
пошли в магазин. Но это, скорее, была просто прогулка по местам ее детства.
У нее не было варежек и даже пуговиц на шубе. Она запахивала широкие поля шубы,
прятала руки в рукава, получалось некое подобие муфты, и таким оригинальным
способом спасалась от холода.
— Без пуговиц удобнее, — весело говорила тетка.
Она была полной противоположностью моей мамы. Жизнерадостная и беззаботная, она
гостила у нас несколько дней. Но мы ее почти не видели. Она сразу же отыскала
каких-то дальних родственников, о существовании которых мы совсем не знали, и
проводила время у них.
В день отъезда тетка подвела меня к шкафу и сказала:
— Я тут под полотенцами оставила отрез красного материала. Боялась, уж не
застану маму в живых, вот и взяла на случай, для обивки…
Наверное, красный материал, идущий на всякого рода торжества, а также и на
случай скорби, был, как и многие вещи в ту пору, дефицитом.
Тетка уехала, запахнув свою объемную, без пуговиц, шубу, и наша жизнь потекла в
прежнем русле.
Бабушка болела, вставала редко.
Однажды утром, с трудом отпуская от себя сон, я почувствовал бабушкино дыхание.
Чуть приоткрыл глаза, и их словно обожгло красным всполохом.
Стоя у кровати, бабушка держала в руках злополучный кусок материи и странно
улыбалась:
— Рылась в шкафу, вот нашла. Хороший материал, — сказала она и, помолчав,
добавила: — Занавесочки бы сшить, а то ходят люди, в окна заглядывают.
Видя, что я окончательно проснулся, переспросила:
— Внучок, как думаешь?
Я оторопело молчал, впившись глазами в кусок ткани, который поглотил все
пространство.
Мне стало страшно. Холодный озноб охватил мое тело, и я, зарываясь в подушку и
захлебываясь от спазма в горле, захрипел:
— Бабушка, уйди!
Сердце стучало мелкой дробью. Я отвернулся к окну. Утренний свет лился через
тюлевые занавески, они расплывались в моих глазах от набежавших слез.
Бабушкины шаркающие шаги удалялись и затихали.
В поисках отца
Отец жил на соседней улице. Но мы никогда с ним не встречались, и у меня не
возникало мысли зайти в его дом, хотя я часто ходил мимо, курсируя в музыкалку —
туда и обратно. Видимо, мама упредила мой возможный вопрос, ведь отцы были у
всех ребят во дворе. Я не помню, как она это преподносила, но понятие «отец»
стало для меня некой условностью, обычным словом и не более.
Помню, как состоялся мой единственный приход к отцу.
Мне и до сих пор ясно видится его немного застенчивая улыбка, слышится их тихий
с мамой разговор. Мама была в хорошем настроении. Помнится и мое нетерпение
быстрее оказаться во дворе, где стоял мотоцикл. Мне очень хотелось ну хотя бы
просто посидеть на нем. Родители угадали мое желание. Мы вышли, и отец,
приподняв меня, помог сесть за руль и даже позволил немного «погазовать».
Наверное, впервые в своей жизни он вот так близко общался со мной.
Любил ли он меня, считал ли своим сыном? Могу сказать одно, помощи не было, мама
сама тянула меня, ну еще немного бабушка, хотя ее пенсия была так мала, что вряд
ли могла существенно поддерживать.
Шло время. И как-то, просматривая оставшиеся от мамы несколько неизвестных мне
фотографий (они лежали отдельно в небольшом конверте), я увидел среди них
пожелтевший листок. Это была часть конверта. Аккуратным красивым почерком (я
сразу понял, это Его почерк) был выведен адрес моей московской тетки, а в графе
«кому» значилось: «Передать Шуре». Моей маме. Я долго вчитывался в незнакомую
фамилию. Удивительно, спустя столько лет я примеривал на себя возможный вариант
своей фамилии. И определил, что фамилия мамы и моего деда мне нравится больше.
Этот листок и фотографии всколыхнули душу. Мне захотелось, это была даже
какая-то внутренняя боль, узнать о своем отце.
Вопросы бились в моем сознании, не давали покоя. Почему я за все годы обходил
эту тему? Почему только сейчас она до назойливости стала мучить меня?
Я довольно быстро разобрался с фотографиями. Случай свел меня с женщиной,
оказавшейся моей дальней родственницей, которая носила такую же фамилию, как и
мой отец, и тоже жила когда-то в Ирбите, городе моего детства. Вот с ней-то я и
решил выяснить, кто есть кто. Она показала снимки своей маме, обладавшей
великолепной памятью, и та признала среди лиц моего отца: «На снимке Павел
Михайлович, баянист. Был неплохим человеком, не какой-нибудь пьяница». А еще
добавила, что у него есть родственники в деревне Трубино.
Я читал и радовался строчкам из нашей переписки с этими людьми. А фраза «не
какой-нибудь пьяница» уже давала шанс думать о человеке положительно.
Воодушевленный письмом, я поехал по местам моего детства вместе с моим другом
Юркой на его старенькой «Волге». Мы прикатили в Трубино.
Деревня — километров пять от Ирбита, одна улица. Старики и старухи. И все они то
ли вправду, то ли нет, оказываются сразу же моими дальними родственниками. Мы
заходим в дом к Лизавете. Ей восемьдесят лет, и она хорошо помнит отца. Но
сказать что-то большее, чем «человек был хороший, не пил, не курил, хотя ходил
играть на баяне свадьбы», не может.
Мы вновь выходим на улицу. Для деревенских наш приезд событие. Они обсуждают
ситуацию уже в который раз, и вдруг я слышу, как одна женщина говорит:
— Постой! Ты же из Свердловска?
— Нет. Из Тюмени.
Женщина замолкает. Явно что-то не стыкуется в ее сознании. Она, да и остальные
жители этой деревни не знают Валеру из Тюмени, они знают Валеру из Свердловска
(Екатеринбурга). И Павел Михайлович — как раз отец того самого Валеры. О моем
существовании они не знают.
Мне становится все понятно.
Встретившись с Павлом Михайловичем, мама полюбила его. Вскоре поняла, что будет
ребенок. Но ей стало известно, что у отца есть еще одна женщина. И почти
одновременно появились два мальчика. Обоим дали одно и то же имя. Будучи
принципиальной, мама не могла допустить двойственного положения и осталась одна,
взяв, по-видимому, слово с отца, что он никоим образом не будет вмешиваться в
нашу жизнь. Отец сдержал слово.
Я недолго пребывал в размышлениях, послышался резкий скрип тормозов. Подъехала
«девятка». С водительского места встала немолодая, но достаточно красивая
женщина и направилась в нашу сторону.
— Моя дочь, — приветствовала Лизавета. И показала на нас с Юркой. — Вот
родственники приехали.
Женщина перевела взгляд с одного на другого, а затем, остановив его на мне,
сказала:
— Как дядя Паша, похож.
Я воспринял это сравнение как сигнал для продолжения разговора о моем отце, но
подробностей не последовало.
Пока шла беседа, Юрка общался на лавочке с дедом. И вскоре обрадовал меня
новостью — оказывается, мы с ним тоже родственники. Я уже все воспринимал
всерьез и с нарастающим интересом.
Вечером мы выпили с Юркой крепкого чаю за родственные отношения, а потом за
дружбу, и стали собираться в Екатеринбург. Я понял, что там мне нужно искать
своего кровного брата. Уж он-то наверняка расскажет о нашем отце.
В Екатеринбурге по линии мамы живут мои дядя и тетя. Останавливаюсь у них. По
великой случайности нахожу адрес и телефон своего брата.
Тетка Вера берется за налаживание мостов с новыми родственниками. Волнуясь,
набирает номер телефона. На другом конце провода отвечают, что такие здесь не
живут. Переехали недавно.
— Может, вы знаете новый адрес? — спрашивает она. И молчание в ожидании ответа,
кажется, длится очень долго. По крайней мере, я начинаю слышать тиканье часов на
кухне.
— Перезвоните, — просит абонент, мы поищем номер.
— Нет, — не унимается тетка, — мы будем на проводе!
Мы ждем 5 или 10 минут. Тетка не отпускает трубку от уха, боясь пропустить
сообщение. Наконец ее лицо начинает светиться, она выдыхает:
— Нашли!
Мы все участвуем в записи сообщения. И тетка, неловко прижимая трубку к плечу,
удерживая уползающий из-под карандаша листок, и я, придавливая кнопки сотового,
и дядя черкает на полях газеты.
Тетка набирает узнанный номер. Несколько гудков. И мы слышим долгожданное:
— Да!
— Мужской голос, — бросает она нам и, немного растерявшись, продолжает уже в
трубку: — Такое событие, вас нашел родственник…
Она не успевает договорить, ее перебивают:
— Сейчас позову маму.
К аппарату подходит жена брата, и вновь тетка выходит на тему большого
исторического события.
— Вы опоздали, — заявляют на том конце провода.
— Как опоздали?..
— Он умер три месяца назад. И вообще, мы вам что-то должны?..
Тетка не ожидала такого поворота событий. Опасаясь, что разговор может
прерваться в любой момент, пытается продолжить:
— Соболезнуем. Нет, ничего не должны. Мы просто хотели обрадовать вас. Мой
племянник долго искал своего отца и хотел поговорить со своим братом.
— Опоздали, — еще раз послышалось в трубке, и пошли гудки…
Я так и не могу поверить в равнодушие, здесь другое. В этом, возможно, трагедия
моего отца, принявшего столь жесткие условия мамы. Трагедия, как мне кажется,
была и в отношениях с той семьей, ведь отец-то в конечном итоге жил один.
Теперь я могу только гадать об этом. Никто не даст ответ.
Я вновь в Ирбите у Юрки. Мы вспоминаем детство. Наша дружба оказалась намного
крепче многих моих родственных отношений…
Как воспитать свое сердце?..
Забежавшая с мороза собака сидела у дверей магазина, провожая взглядом
выходящих. Теплое помещение давало ей шанс согреться и обратить на себя
внимание. Ждала, что чей-то случайный взгляд, брошенный на нее, задержится
дольше обычного, и произойдет чудо!
Глаза собаки цепляли покупателей. В каждом она надеялась встретить друга и с
готовностью выражала согласие куда-то последовать, если позовут.
Хлопала дверь за очередным посетителем и гасила надежу на счастье.
И я ушел, как все, но болело сердце от жгучего взгляда собаки.
Идя по ночной морозной улице, думал о воспитании своего сердца. Какую прививку
сделать от боли? Как закалить его?..
Неожиданно из темноты на меня обрушился чей-то хриплый голос:
— Мужик, дай шесть рублей. На бутылку не хватает!
Я отстранился от силуэта. Ничего, кроме брезгливости, во мне этот голос не
вызывал. Меня по-прежнему провожал взгляд собаки, и болело сердце.
Как воспитать его?..
Зоопарк
Передвижной зоопарк стоял в центре города. Ряд размалеванных вагончиков и
погнутая карусель.
Меня привлекли верблюды. Они не были привязаны и мирно паслись у вагончиков.
Мое появление их заинтересовало.
Один подошел ко мне. Честно говорю, я испугался. Сразу вспомнился фильм.
Оплеванным я быть не хотел.
— Не бойтесь, — услышал я голос молодой девушки. Она вышла из вагончика,
приблизилась ко мне и, прочитав мои мысли, сказала: — В фильме все неправильно
показано. Они очень мирные животные.
Я осторожно погладил гиганта. Но этого ему было мало. Он стал настойчиво тыкать
мордой в мою руку.
— Просит чего-нибудь. Фу, Боря, фу.
Девушка оттащила верблюда от меня.
Мы разговорились.
Оказалось, это зимующий у нас тольяттинский зоопарк.
— Кочуете?
— Кочуем, уже год, как я с ними.
— Хватает корма?
— Пытаемся кормить хорошо. Люди иногда что-нибудь приносят.
Купив «копеечный» билет, я зашел на территорию и оказался в квадрате, окруженном
вагончиками-клетками. Посетителей не было, и звери невольно смотрели в мою
сторону. С разных сторон, через ржавые железные прутья, они разглядывали меня,
кто безучастно, кто настороженно.
Как же мала территория их мира.
Я стоял совершенно не защищенный от этого надвигающегося на меня скорбного
взгляда зверей, и казалось, что я и сам нахожусь в такой же клетке.
Мне стало не по себе от этого жуткого неравенства условий, я-то мог уйти, и я
поспешил к выходу. А верблюды Вася и Боря, корабли жаркой пустыни, остались
жевать сено, переминаясь на скрипучем снегу…
Мать
Метрах в двух от газетного киоска сидела собака и тянула шею к окошечку.
Был холодный зимний день, и кроме этой одинокой охранницы киоска с периодикой,
никого не было.
Ветер рывками теребил неухоженную шерсть собаки.
Я подошел к окошку и попросил газету. Подав ее, киоскерша спросила:
— Что-то еще будете брать?
— Нет, — ответил я.
— Тогда покормлю подопечную.
Она зашуршала пакетом и через мгновение вышла на улицу.
Собака завиляла хвостом, привстала, и тут я разглядел набухшие, обвисающие почти
до снега красноватые соски.
Женщина достала из пакета несколько кусков мяса и кинула животному. Перехватив
мой вопросительный взгляд, ответила:
— Жалко, вот и ношу ей обрези. Она уже знает мою смену, встречает.
Да, только женщина поймет женщину.
Через несколько дней, проходя мимо, я заглянул в киоск.
— Как ваша подопечная?
— Да вот, что-то не приходит, уже два раза приносила покушать…
Я не часто бывал в том районе, но как-то по весне заглянул.
Наклонившись к окошечку киоска, спросил дружелюбно, по-свойски:
— Как ваша собачка?
— Вы о чем? — на меня смотрели ничего не выражающие глаза незнакомки.
Я извинился и ушел…
Снегирь
В холодном автобусе мороз затянул узорчатым рисунком окно, оставив для таких,
как я, любопытных, небольшой просвет в середине.
В него-то я и увидел двух девушек. Они стояли у дерева, и одна из них, привстав
на цыпочки, тянулась рукой к высоким веткам дерева.
Приглядевшись, я увидел в ее руке фотоаппарат.
«Что она нашла там любопытного?» — подумалось мне.
Через мгновение, когда ярко-красное пятнышко блеснуло на ветке, я ахнул —
снегирь!
Красногрудая птица явно позировала. Не боясь, сидела буквально в полуметре от
аппарата.
Я смотрел на красавца через виньетку морозного рисунка своего стоявшего
автобуса. Обледеневшее стекло как бы приближало и увеличивало объект, поэтому
наверняка мое «фото» было интересней!
Спасенные рояли
Голос в трубке дрожал, срывался от волнения. Мне звонила Галина Аверьяновна
Соколова. Когда-то в далеких семидесятых мы с ней работали в тюменской школе №
17. Она вела начальные классы, я музыку. И вот звонок:
— Понимаете, они дали только два дня! Если не вывезти, то их просто выставят на
улицу. Я случайно узнала об этом. Надо спасать! Я не знаю, кому еще можно
позвонить, помогите!
Речь шла о роялях. Начался ремонт Дворца культуры, и инструменты приговорили к
выбросу. Они занимали слишком много места и мешали строительным работам.
Я подошел к Дворцу культуры, некогда красивому и современному, теперь он был
огорожен забором. Импровизированный склад-двор принял уже достаточное количество
всевозможной «утвари» — реквизита, кресел, столов, стульев, и я с трудом
протискивался к входной двери.
Из-под брезентового полога одиноко торчала ножка рояля. Чуть поодаль был и сам
рояль. Перевернутый, клавиатурой вдавленный в землю, он одновременно вызывал
жалость и страшил скорбным видом.
Я узнал этот инструмент. Он когда-то гордо украшал кабинет директора, заявляя
всем входящим о своем царственном положении. Пусть не настроен и не на сцене, но
зато в главном кабинете дворца!
Сторож, перехватив мой взгляд, изрек:
— Негоже, конечно, так… вот, прикрыл брезентом…
Я прошел внутрь здания.
Сбитая штукатурка оголила кирпичную кладку стен, и теперь из всех углов торчала
крючковатая арматура, под ногами скрипело битое стекло, валялись провода.
Несмотря на лето, в помещении было прохладно и сыро. Я прошел по коридору и
оказался на сцене.
В кармане кулис, в тусклом пробивающемся через щель свете мелькнул отблеск
полировки.
Плотно прижатые, словно согревая друг друга, стояли красавцы рояли. Я приподнял
крышку одного из них, нажал клавишу. И чистейшее «ля» зазвучало в пыльном хаосе
здания!
Инструмент не сдавался. Он готов был работать.
Второй инструмент также был в хорошем состоянии.
Я нашел начальника стройки. Четко давая задания рабочим, так же четко сказал
мне:
— Дня два-три потерплю. Не больше. Потом не взыщите. Выставлю во двор!
Он говорил так, как будто только от меня зависело решение вопроса.
— Попробую пристроить, — гулкое эхо пустого здания повторило мою фразу, и мне
подумалось, какую высокую меру ответственности я возложил на себя. Я случайный
свидетель. Не более того. Есть же хозяева. Есть руководство!
— Год говорю всем, заберите, — продолжал глава стройки, — сами видите…
Я стал звонить по «культурным» организациям, но разговоры были бессмысленны.
Никто не хотел связываться с погрузочно-разгрузочными работами. Ссылки на
Рахманинова (он же возил рояль с собой по всей Америке!) не убеждали. Оппоненты
были глухи. Зато каждое произнесенное предложение в защиту роялей еще больше
утверждало меня в необходимости спасения.
Я позвонил зав. кафедрой музыки Тюменского государственного университета Виктору
Емельянову.
— Виктор Вадимович, университету нужен рояль?
— Конечно! Вам ли не знать, что мы экзамены вынуждены сдавать на
электроклавинове.
— У вас будет инструмент!
— Кто-то продает?
— Нет, дарят.
Пауза тянулась очень долго, и после прозвучало:
— Вы шутите?
— Нет. Я серьезно. Но есть два условия. Обещайте, что выполните!
— Если это не розыгрыш, обещаю.
Я продолжал тянуть «детективную» историю:
— Забрать нужно как можно быстрее, это первое, и второе, забрать два
инструмента!
Моя напористость и, безусловно, актуальность проблемы, а скорее нестандартность
ситуации сыграли в пользу победы.
Через три дня мощный подъемный кран ставил рояли на платформу КамАЗа. А
выгружали их уже в окно третьего этажа университета.
Еще пыльные, но уже готовые к игре инструменты стояли на сцене зала. Сергей
Самсонов — пианист и настройщик, в рабочей одежде (он был одним из руководителей
погрузочно-разгрузочных работ), не удержавшись, сел за инструмент, и рояль (как
он ждал этих минут!), подчинившись профессиональным рукам пианиста, откликнулся
звучанием шопеновского «Революционного этюда»!..
Обнимая небо
Шло заседание праздничной комиссии перед Днем города. Одним из ярких моментов
шоу предполагался выброс парашютистов, их приземление в центр стадиона перед
сценой. В момент приземления, по замыслу организаторов, должен появиться я с
песней Александры Пахмутовой «Обнимая небо…».
Думали, как интересней подать номер, и вдруг кто-то из крепких
ребят-парашютистов предложил:
— А что если товарищ певец начнет свою песню прямо с полета?
Все удивились — каким образом? И выразительно посмотрели на говорившего.
Тот спросил меня:
— Ты будешь петь в радиомикрофон?
— Думаю, да.
— Надо обязательно в радио, тогда все получится…
Парень азартно потирал руки:
— Мы полетим вместе. Я зацеплю певца на «кенгуру». И когда мы будем подлетать к
земле, еще в воздухе, он начнет песню.
В тишине все посмотрели на меня.
Во мне вдруг проснулись азарт и давнее желание испытать себя. В мыслях я уже
парил над многотысячным стадионом, слабое дуновение включенного кондиционера
стало казаться мне свистящим ветром на большой высоте. И я согласился.
Руководитель проекта Вячеслав Федорович Медведев скептически отнесся к такому
предложению, но и возражать не стал.
Дома в красках я стал расписывать предстоящий полет.
— У тебя что, нет сына? — прервала мой словесный затяжной прыжок жена. И этой
репликой наложила вето на мой полет.
Наступил праздничный день. Парашютисты один за другим мягко приземлялись в
очерченный круг, а я, несостоявшийся романтик, «обнимал небо», как обычно, стоя
на сцене, встречая взглядом приземлявшихся, а потом провожая улетающий самолет.
Через несколько лет, перебирая архив, я наткнулся на небольшой листок. Это было
свидетельство аэроклуба о том, что мой сын совершил тренировочный прыжок с
парашютом типа Д-6 с высоты 1000 метров на «отлично». Вот так, никому ничего не
сказав, он самостоятельно поехал в аэроклуб и совершил прыжок. Без хвастовства,
без лишних слов «обнял» небо за меня.
Растревожу клавиши
Я нередко захожу по хоровым делам к Татьяне Владимировне Солодовниковой. Она
руководит хоровым коллективом «Сибирята», а я, совершенно свободный художник,
порой не очень обремененный спешными делами, вторгаюсь внезапно в ее кипучую
жизнь.
Татьяна Владимировна при моем появлении улыбается, откладывает дела, если это
только не репетиция с коллективом, и дружески предлагает пообщаться и выпить
чаю.
Вот так когда-то я заходил на огонек к композитору Володе Кайгородову, папе
Татьяны, и невозможно было уйти от него, не выпив чаю.
— Тебе сколько мешков? — спрашивал он, доставая большую зеленую коробку
грузинского пакетированного чая. Пакетики были спрессованы по два, и он называл
их мешками.
Я обычно соглашался на один. Он же, не изменяя своей привычке, клал в стакан
два, и немного подтрунивая надо мной, хитро улыбаясь, просил:
— А давай сегодня по два?!
Даже в ситуации постоянного дефицита я предпочитал крупнолистовой индийский чай,
но с Володей за разговором и грузинский пакетированный был очень вкусным.
Как-то Володя буквально с порога, не дав мне пройти, предложил прогуляться по
старой Тюмени.
Окутав тайной этот «поход», он шел и постоянно приговаривал:
— Сейчас, сейчас, увидишь.
Мы подошли к особняку. Добротный двухэтажный дом конца позапрошлого века, судя
по табличке, был историческим памятником.
Володя со значимостью в голосе произнес:
— Теперь это офис Музыкального общества.
— Ого! — только сумел выдохнуть я, подумав, какая у нас хорошая и правильная
власть.
Мы зашли внутрь. Велись отделочные работы, и мы с большой осторожностью ступали
по дощатому настилу. Володя достал план перестройки здания и стал увлеченно
рассказывать о предстоящих делах.
— А теперь, — он на секунду замолк, — самое главное!
Мы вошли в довольно просторную комнату.
— Это будет наш небольшой концертный зал.
В неясном освещении блеснула полировка, и я воскликнул:
— Рояль?!
— Да, — Володя по-мальчишески радовался, — представляешь, заходим, а он тут нас
ждет. Ты поиграй, поиграй.
Он поднял пыльную крышку, и от стройного ряда белых, может быть, только с
небольшим налетом желтизны клавиш, комната показалась светлее.
Боясь услышать фальшь, я осторожно нажал клавишу.
— Смелее, — услышал я голос Володи за спиной.
Стряхивая вековую пыль с молоточков и струн, обретая свое обычное состояние,
инструмент запел.
— Его никто не настраивал, — не унимался Володя, — а он жил и столько лет ждал!
Мы шли обратно по старым улочкам Тюмени и говорили, и мечтали, и даже пели. Но
не суждено было сбыться нашим мечтам. Строительство прекратили, здание отдали
более нужным и значимым организациям.
С Тамарой Павловной, супругой Володи, мы подружились несколько позже, когда
Володи уже не стало.
Она начинала растить своих первых «сибирят», и я что-то писал для них, выступал
в общих концертах.
У меня сохранились несколько фотографий тех лет. Вот я за роялем на концерте,
что-то поем вместе, вот мы кружимся в вальсе с Тамарой Павловной. Она любила мой
«Атлантический циклон», и я помню, спев куплеты, на проигрыш, не предупреждая,
закружил ее.
Легкий, светлый человек, в то же время деловой и принципиальный, она сумела
много лет назад создать первую в Тюмени хоровую студию.
Теперь это музыкальная школа, а ведет ее уже дочь талантливых супругов Татьяна,
с которой мы нынче встречаемся, пьем чаи, говорим, мечтаем и поем, как когда-то
с Володей.
А одна песня у нас особенная. В память о родителях Тани мы ее написали с
поэтессой Антониной Марковой, она называется «Растревожу клавиши»:
Я раскрою старенький рояль,
Растревожу клавиши упрямо.
Им дарили радость и печаль
До меня и бабушка, и мама…
Встречи с поэтами
Владимир Степанов
Я долго плутал по садовому клязьминскому кооперативу. Номеров на домах не было,
а если и попадались, то не на всех.
Тогда я решил искать по значимости дома. Ну, поэты же должны жить в добротных
домах! Но все дома были примерно одинаковые, чуть лучше, чуть хуже, и никаких
«золотых» крыш в круге моих поисков я не увидел.
За неприметным забором копался странного вида мужик в фуфайке, и я все не
решался спросить у него, как мне найти «такой-то» дом. Но спрашивать больше было
не у кого, и я его окликнул.
Мужчина повернулся на мой голос и молча указал на дом, стоявший на его участке.
— А поэт Степанов здесь живет? — продолжил я.
Он кивнул:
— Это я.
Я с недоверием смотрел на мужчину, все еще пытаясь сопоставить явившийся здесь
непонятный, совершенно не поэтичный образ и строчки стихотворения, которые и
привели меня сюда.
Этот ветер выдумал листья,
Захотелось им прошелестеть.
Эти лужи выдумали тучи,
Чтоб с земли на небо посмотреть.
Это солнце выдумали птицы,
Им запеть хотелось поскорей.
Выдумали радугу на небе
Семь моих цветных карандашей.
Поэт, написавший такие строчки, представлялся мне другим.
Наверное, я очень долго внедрял эти несовместимые, с моей точки зрения, образы
один в другой, что мужчина не выдержал и крикнул:
— Заходи, чего стоишь!
К моменту моего знакомства я уже написал несколько песен на стихи Владимира
Степанова. «Семь моих цветных карандашей» наверняка была лучшей, и мне хотелось
выразить слова признательности за прекрасные строчки и, конечно же, попросить
поделиться новым материалом.
После дружеской беседы Владимир Александрович в буквальном смысле вывалил на
стол увесистую стопку своего архива. Это были отдельные листы с порой плохо
пропечатанным текстом.
— Не удивляйся, — отреагировал поэт, видя мою неудавшуюся попытку с ходу
прочитать текст, — это четвертые или пятые экземпляры копирки. Первые я отдаю в
издательство. Покопайся, поразбирай, может, что для себя найдешь, и я покопаюсь
— пойду на огород.
Уже намного позже я узнал, что Владимир Александрович наследует тягу к земле от
отца, известного агронома и цветовода, и поэтому его обращение к природе, к
ветру, что «выдумали листья», к солнцу, которое «выдумали птицы» и запели,
неслучайно. Запел и я, просмотрев в тот день его архив. Я тогда выбрал
стихотворений двадцать, на эти тексты в дальнейшем написал песни и хоровые
произведения, среди них «Моряк Чап», «Рыжий пес», «В лесу осиновом».
Недавно, просматривая свой архив, обнаружил степановский листок, на который
раньше не обратил внимания, и написал, как мне кажется, красивую мелодию для
хора.
Владимир Орлов
Не имея тени сомнения, что поступаю бестактно, увидев Владимира Орлова, я сразу
отрапортовал ему:
— Композитор из Тюмени, здравствуйте, я написал на ваши стихи песни.
Возможно, я бы никогда и не сделал подобный шаг, если бы не случай оказаться в
Крыму.
Нашу небольшую делегацию областное управление культуры направило в Феодосию на
конференцию. Уже пахло развалом Советского Союза, но, как видно, корни строя еще
крепко держались за почву. Нас набралось со всей страны довольно много. Каждому
хотелось выступить. Устав от постоянных дискуссий, я решил выбраться на денечек
к Орлову в Симферополь. В Союзе писателей Украины мне подсказали адрес, ну а
дальше все просто: автовокзал, автобус и заветный дом, где, конечно же, меня не
ждали.
Тем не менее встретили хорошо.
Может, магическое слово «Тюмень» было всему виной. Очень часто удивлялся тому,
что услышав название города, люди добавляли значимо:
— А… это там, где белые медведи.
Вот и Владимир Орлов тоже намекнул.
Я ничего не имел против.
У поэта были больные ноги. Он с трудом передвигался из комнаты в комнату. На
прогулку практически не выходил.
Было видно, что жена, очень приятная и тактичная женщина, все свое время целиком
посвящала ему.
Орлов быстро уставал, и несколько раз беседа прерывалась. На это время мы с его
женой уходили на кухню, покуривали, и она делилась со мной воспоминаниями, то
горестными, то радостными. Я понимал, что ей было необходимо выговориться и
открыть правду вот только такому случайному человеку.
Ближе к вечеру, после отдыха, поэт попросил меня показать опусы.
Мне казалось, что «Кораблик» — это моя удача.
Мой журавлик знакомый
В небе делает круг.
Он впервые от дома
Улетает на юг.
Он кружит надо мною,
Я не плачу, терплю.
Я кораблик построю
И флажок прикреплю!
Так плыви, мой кораблик,
Паруса накреня.
Ты узнай, как журавлик
Там живет без меня!
Я сел за инструмент.
Играя первый куплет (он идет медленно и лирично), я чувствовал, что нахожусь на
правильной волне. Поддержка автора вдохновляла, я приободрился и, что
называется, по полной, на хорошей динамике, замочил темповой и джазовый припев.
Что тут началось! Волна превращалась в шторм. Орлов бушевал.
— Как ты посмел так написать, — кричал он, — это же лирическое стихотворение!
Я сидел, съежившись, и не знал, как реагировать.
— Ну что там еще у тебя, что ты еще испортил?! Давай показывай! — голос был
довольно жестким.
Да, иной раз поэты ревностно относятся к своим стихам, поэтому я не стал более
рисковать, а решил поиграть песни, написанные на стихи других поэтов.
И когда я показал несколько сочинений, он дружески похлопал меня по плечу и
сказал: «Умеешь писать!»
На прощанье поэт подарил мне, с едва различимыми буквами, наверное, четвертую
или пятую копию своей знаменитой сказки «Золотой цыпленок».
— Эту пьесу ставят везде, — напутствовал он, — пиши свой вариант и предлагай
театрам.
И я написал свой вариант. Но, действительно, ставят так много, да и мультик
появился, что я не захотел вгрызаться в идею постановки. Может, придет время…
Борис Марьев
В 1972 году перед своим первым учебным курсом я заехал в Свердловск. Уж очень
мне хотелось найти поэта Бориса Марьева, на чьи стихи я написал свою «Тюмень».
В Союзе писателей Урала мне дали номер телефона, и я позвонил.
На той стороне провода ответили: «Да, любопытно», — и пригласили приехать.
Я зашел в совершенно непримечательный дом, а потом в такую же простую квартиру.
Марьев встретил меня у порога с широкой, светлой улыбкой.
Расставив руки, он сгреб меня в объятия, и мне сразу стало казаться, что мы с
ним знакомы давно.
Я-то действительно его знал давно по стихам. Когда-то случайно прочитал его
авторскую книжку «Вьюга». Рубящие строки, по Маяковскому, сильно взволновали
тогдашнюю мою, подростковую, максималистскую душу, и я полюбил его творчество.
Несколько раз пел у себя в поселке написанную на его стихи песню.
Баяли, в Тюмени — тундра да пельмени,
Баяли, Тюмень — темень да таймень.
А Тюмень легла ребром —
Зданья аж до самолета!
А Тюмень зажгла неон —
Расставаться неохота!
А за нею, за Тюменью, по болотам и лесам,
Нефть клокочет в нетерпенье — сто фонтанов к небесам!
…….
Там ровесники, чумазы,
Рубят синюю тайгу,
И гудят победно «МАЗы»,
Пробиваясь сквозь пургу.
Я романтикой оброс,
Пью стаканами мороз!
Марьев познакомил меня со своей женой, и оба они сразу попросили меня спеть.
— Не могу так, — сопротивлялся я, нужен инструмент, — это не капелла, а
эстрадная песня.
— Ну, хоть немножко, — не унимались они.
И даже аргумент, который выдвинула жена поэта, что на стихи Бориса композиторы
не писали песен, не подействовал.
— Можно пойти в какую-нибудь школу, — предложил я.
— Зачем в школу, — удивился Марьев, — мы можем поехать на вторую квартиру, там у
нас есть инструмент, правда, не очень настроен.
Трамвай, поскрипывая и звеня, долго вез нас на другую квартиру. Меня
расспрашивали о семье, да и о Тюмени тоже. Хотя на тот момент город еще не стал
мне родным, я ведь только-только поступил на первый курс.
Мы зашли в квартиру. Скорее, это был кабинет. Я впервые видел столько книг.
Полки шли до самого потолка, и было только одно свободное место там, где стоял
инструмент, но книги лежали и на нем.
Инструмент, действительно, был неважно настроен, но тем не менее максимально
выдержал напор моей игры.
Меня похвалили. Наверное, мне в то время и нужно было только это. Доброе слово.
Тимофей Белозёров
Случай этот был давний, еще в советскую пору. Волею случая я оказался в Омске.
Я знал, что в этом городе живет замечательный поэт Тимофей Белозёров, покоривший
меня чудесными строчками, на которые невозможно было не написать песню.
В родной моей сторонушке, на краешке земли,
Купаются воробушки в серебряной пыли,
В поневах ходят бабушки, неспешно говорят,
Играют дети в ладушки и кукол мастерят.
В родной моей сторонушке курлычут журавли,
И клонятся подсолнушки за краешек земли.
Эти строчки дали вдохновение не только на песню, но и на целую музыкальную
программу, которую сняла Тюменская студия телевидения с участием моего детского
хора.
Я позвонил на квартиру. Ответил женский голос, это была жена поэта. Она с
грустью ответила, что поэта уже нет. Но любезно согласилась на встречу.
— Все, что касается Тимы, — сказала она, — мне дорого, приезжайте.
И вот я в гостях.
Меня сразу же усаживают за инструмент, и я пою.
На своих плечах я вдруг ощущаю легкое прикосновение ее рук, слышу тихое
всхлипывание.
Я закончил играть и не смел нарушить наступившую паузу.
Женщина погладила меня по голове и тихо попросила:
— Сыграйте еще…
Я играл, а она неслышно ходила по комнате и шептала: «Если бы Тима был жив, если
бы был жив…»
Иван Бардин
Очень часто материалом для песен становились стихи из детских журналов. Так
появились «Шалуны», «Колдунья», «Танк герой».
Автора «Танка» Ивана Бардина я искал много лет. Мне так хотелось взглянуть в
глаза мальчишки, написавшего в 10 лет (публикация 1986 года) такие сильные,
искренние строчки:
На бетонном пьедестале танк застыл,
Он в боях за нашу землю ранен был.
Сколько вмятин и царапин на броне,
Он сражался по-геройски на войне.
О боях забыть не может танк никак,
До сих пор ночами снится шум атак.
Я ладошкою поглажу по броне,
Пусть немножко он забудет о войне.
Помню, когда впервые читал стихотворение, у меня по спине прошел озноб.
Невозможно было сдержать нахлынувшее вдохновение, и я тут же набросал мелодию.
Выступая перед школьной аудиторией, я часто задаю вопрос: какие строчки
вдохновляют? И ребята безошибочно говорят «…я ладошкою поглажу по броне…».
А как поют эту песню мальчишки! По выражению одного учителя музыки, «тельняшки
рвут».
И вот случайно в 2012-м нашел поэта, позвонил ему.
Теперь Иван Бардин именитый поэт у себя в Самарской области.
Я рассказываю ему о своем тогдашнем состоянии, восхищаюсь его талантом. Надо же
в 10 лет так глубоко и мудро!
Иван дослушивает мой монолог и… развенчивает сказку.
Оказывается, все было не так.
Стихотворение он написал в 20 лет. Послал подборку в журнал «Пионер» с
припиской, что сочинять начал с 10 лет.
Ну, а дальше все на совести «внимательного» редактора, который увидел только
десятилетний возраст.
Хотя, если честно, то я благодарен этому безвестному редактору.
Иногда нужно, чтобы легенда оставалась.
Елена Григорьева
Читая очередную подборку в «Пионере», я наткнулся на несколько стихотворений
Елены Григорьевой:
Стихи мои странны,
Хотя не заумны
И не пространны.
А просто они
Ни на что не похожи,
Да я и сама
Удивляюсь им тоже.
Придут осторожно,
Заденут словами:
«Ты нас не пиши,
Мы получимся сами…»
Находясь проездом в Москве, я позвонил поэтессе.
Был вечер. Мы разговаривали по телефону, и Елена Александровна все удивлялась,
неужели на ее стихи можно написать песню.
— Пропойте хотя бы строчку по телефону, — просила она меня.
Ну вот, опять, думал я, мне предлагается усредненный вариант. Пропеть, конечно,
можно, а как же гармония?
Мы условились на завтра.
Я занялся своими делами, но через час-полтора раздался звонок. На проводе вновь
была Елена Александровна:
— Валерий, знаете, я что-то не могу успокоиться. Вы не могли бы приехать сейчас?
Уже наступила ночь, в мой гостиничный номер проглядывали звезды.
Нужно ехать в центр. Елена Александровна живет на Малой Бронной. Я хорошо знаю
этот район. Памятник Пушкину, ну а с недалекого времени район знаменит еще и
первым рестораном быстрого питания «Макдональдс».
Бывая в Москве, я всегда заглядывал на огонек к Елене Александровне. Она меня и
познакомила с творчеством Инны Гамазковой, Розы Асылбаевой, а еще я открыл для
себя не только детскую поэтессу, но и серьезного поэта-философа.
Откройте и вы.
Кто говорит
со мною в тишине?
Господь?
Или душа,
сокрытая под клетью?
Иль это голос сердца моего —
та точка, зернышко,
откуда я расту,
где бьется жизнь,
готовая к бессмертью?..
Анатолий Марласов
Мое возвращение из Москвы с моим первым изданным сборником совпало с каким-то
большим собранием, которое организовало областное управление культуры. Это был
1993 год.
Я напросился на выступление, потому как ожидался приезд представителей всех
районов юга и севера области. Знаковое событие, между прочим, потому как пройдет
немного лет, и область поделят, появятся округа ХМАО и ЯНАО, Тюмени останется
только юг. И у каждого из поделенных будут свои приоритеты, свои управления и
свои большие собрания.
Мне хотелось воспользоваться появлением такой массы высоких чиновников и, как
говорится, показать себя, вернее, только что вышедший в свет мой нотный сборник.
Мне дали слово. Я выступал ярко. Но моя патетика задела, увы, только одного
человека. По окончании собрания он подошел и представился — поэт Анатолий
Марласов.
Он протянул мне два листочка:
— Старик, почитай, может, напишется…
Написалось сразу.
Это были «Зеленый домик» и «Белый конь».
Уже позже выяснилось, что Анатолий Михайлович всем музыкантам щедро раздавал
свои рукописи. Поэтому вариантов этих песен, думаю, множество.
Были и свои варианты у поэта, которые он тихонечко наигрывал на семиструнке.
Что касается моих мелодий, то их, оказалось, любят. С большим вдохновением поют
и взрослые, и дети. Удивительно слышать, как взрослый стих ностальгического
порядка пробивает сознание ребенка и он поет: «Домик зеленый, с крышею белой,
рядом смородина. Ты меня слышишь или не слышишь, малая Родина…».
Работая на радио, я пригласил Анатолия Михайловича в прямой эфир.
Как он читал свои стихи! По памяти, вдохновенно!
Обычная речь, за внятностью которой он не всегда следил, становилась упругой, с
четкими согласными, динамичной!
А мне-то
И надо немного,
И этим богата душа —
К зеленому солнцу дорога
И зернышко карандаша.
Стихи,
Как тревожные маги,
Меня обступают, дыша,
А мне-то и надо —
Бумаги
И зернышко карандаша.
Не требую высшей награды,
Без низшей живу не спеша.
Мне Родину только и надо…
И зернышко карандаша…
|
|
 |
|
 |
|