| |
|
|
|
|
|
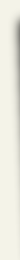 |

|
|
|
Магнитное притяжение к тайнам забытых судеб
Как говорит сам автор, жанр, в котором написаны эти очерки, рискованный,
необычный, то и дело просящий оговорок, чтобы читатель не подумал, что все
рассказанное есть фактологическая достоверность. В то же время страницы очерков
— итог бесконечных многолетних поисков автора, его наблюдений и даже личных
догадок.
Публикуются главы из будущей книги Юния Горбунова, которой пока дано условное
название «Лики Петербурга». Неординарные личности могут быть из разных краев
России, но так или иначе их судьбы неразрывно связаны с великим городом
Санкт-Петербургом. Так судьба крепко связала с городом на Неве и врачевателя из
Сибири Николая Белоголового. Автор очерков проникся к этому своему герою горячим
интересом, узнав о нем из архива известного русского издателя и просветителя
Флорентия Фёдоровича Павленкова. Привлекло то, что такие люди, оставаясь
малоизвестными, являли собой яркие примеры великого служения обществу.
Сталкиваясь с пробелами в биографиях героев, автор решил работать в жанре
«были-небыли», позволяющем произвольно дорисовать выбранный документальный
сюжет. Этакая, по словам автора, современная мифология. Вот правда-легенда еще
об одном герое далекой поры русской жизни. Известно было, что «некий майор
Аничков на заре Петербурга построил на Фонтанке слободу, а потом и первый
навесной мост». Это все, что осталось в исторических документах об этом
человеке! Автору пришлось погрузиться в давний временной момент судьбы Аничкова,
чтобы представить, как всё было.
Юний Горбунов — известный екатеринбургский краевед-историк. Родом он из
Рязанской области, детство и большую часть взрослой жизни провел в уральском
городе Серове. Там он работал на металлургическом заводе. Потом служил в армии,
окончил УрГУ и снова пошел на завод. Потом были газеты «Серовский рабочий»,
«Уральский рабочий» (собкор по северу области), журналы «Урал» и «Уральский
следопыт».
Его публикации связаны с историей Урала и России. Особое место в его
творческих трудах занимает биографическая книга о Флорентии Павленкове
(Челябинск, 1999) и о людях, его окружавших. Продолжают выходить очерки о них и
вот — главы будущей книги «Лики Петербурга» (на эту работу автора вдохновило
многолетнее общение, почти дружба с наследием Павленкова).
Историк и писатель Горбунов является также инициатором создания и первым
руководителем Всероссийской общественной организации «Содружество павленковских
библиотек» (под эгидой ЮНЕСКО).
«Проталина»
Тернии и лавры доктора Белоголового
Судьба этого сибиряка тесно переплелась с острыми событиями XIX века. Начиналась
она почти два века назад в 1834 году. В том же году Николай I утвердил текст
Государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни».
Николай Андреевич Белоголовый рано почувствовал, что главное дело его жизни —
врачевание. Это было как раз время открытий в области медицины. Имя и судьба
врача, публициста и мемуариста Белоголового сейчас, к сожалению, мало известны,
хотя многие годы он работал в тесном союзе с известным светилом медицины С.П.
Боткиным. Доктора дополняли друг друга. Практика Белоголового росла и
развивалась на почве научной школы Сергея Петровича Боткина…
Фамилия Боткина запечатлена и в трагических событиях российской истории. В 1918
году его сын — Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик императора Николая I, был
расстрелян вместе с царской семьей в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского
особняка.
Вот так переплетались судьбы людей с судьбой страны.
Родом Белоголовый из Сибири, родился он в Иркутске. Именно здесь он узнал
историю декабристов и окунулся в сложившуюся атмосферу общественно-культурной
жизни, которую принесли с собой декабристы. В свои юные годы Николай с двумя
братьями жил под покровительством трех просвещенных каторжан — Алексея
Юшневского, Петра Борисова и, особенно плодотворно, Александра Поджио, с коим
был потом дружен и сообщителен до конца его жизни.
Декабристы в Сибири — тема вечная и всегда недосказанная. Выходцы, как правило,
из семей высокородных, достойнейшие из них осознали свою вину в безоглядном
протесте на Сенатской площади Санкт-Петербурга и искуплением этого невольного
греха стало их человеколюбивое просветительство. В этом осознании и искуплении —
истоки бесконечного альтруизма декабристов, пленников Сибири. Никто, как они, не
переносил так стоически и естественно великие испытания каторги и поселения.
Никто, как они, не оставил такого культурно-нравственного следа в нескольких
поколениях сибиряков.
Юное сердце Николая Белоголового навсегда запечатлело жизненное кредо своих
учителей: протестовать, просвещая, и просвещать, протестуя. И то сказать: на 20
тысяч иркутян в пору детства Белоголового в городе приходилось 15, а то и 20
высокообразованных каторжников. Не мудрено, что в конце 40-х годов XIX века, в
такое глухое для страны время, именно из Иркутска потянулись первые
юноши-сибиряки в столичные учебные заведения.
Очерк о выдающемся докторе призван в какой-то мере воссоздать всю тревожность и
целеустремленность жизни передовой части общества в ту пору.
Городовой врач
После «школы» декабристов отец отправил тринадцатилетнего Николая с купеческим
обозом в Москву, где ему предстояло учиться в пансионе пастора Эннеса, что
угнездился в Большом Успенском переулке. Здесь образовывались мальчики из
купеческих и иностранных семейств, обучаясь сразу на латинском, греческом,
немецком и французском языках.
Одним из однокашников Николая с первого дня пребывания в пансионе по воле судьбы
оказался будущий знаменитый российский врач-клиницист Сергей Боткин, на всю
предстоящую жизнь ставший alter ego Белоголового. Обоих как изрядно
подготовленных приняли сразу в 4-й класс (низшим был 6-й). Окончив пансион, оба
ударились в медицину и поступили на соответствующий факультет Московского
университета. Николаевский вуз в начале 50-х не был обделен муштрой.
Обмундированным студентам при шпаге и нелепой шляпе-треуголке велено было
отдавать честь своему начальству и всем военным генералам, не доходя до них трех
шагов. Слава университета во многом держалась на именах профессоров Т.Н.
Грановского, С.М. Соловьева, Ф.И. Иноземцева, К.Н. Леонтьева и других.
И вот в 1855-м двадцатилетний выпускник, проделав с приключениями далекий путь
из Москвы в Иркутск, вернулся на родину и за полным отсутствием здесь
образованных медицинских кадров сразу принял должность городового и окружного
врача, а в пристяжку еще и ветеринарного. Иркутский округ той поры по своим
пространствам мог дать фору и Франции, и Германии. Три года длилась врачебная и
административная практика Белоголового на почти девственных в плане медицины
палестинах округа, где только полное отсутствие реальной помощи и могло скрыть
обилие страждущих. А надо к этому добавить, что двадцатилетний эскулап каждый
визит пациента и любое поручение инспектора врачебной управы испытывал своим
горячим сердцем.
Удручало его, что профессиональных знаний таки недостает. И он отправился
совершенствоваться за границу. Но неудачи на золотых приисках
Белоголового-старшего поистощили семейный купеческий капитал. Николай жил на
минимальные средства, выбирая местечки подешевле — терпеливо и дотошно учился,
собирал материал для докторской диссертации. А местом ее написания облюбовал и
вовсе безлюдный от туристов уголок — остров Рюген, что у балтийских берегов
Германии. Успешная защита диссертации состоялась в Москве. И в 1862 году молодой
остепененный медик вновь появился в Иркутске — теперь уже старшим городовым
врачом.
…В комнате Александровской тюремной больницы (это в семидесяти верстах от
города) Белоголовый собрал синклит здешних медиков. Всё люди в годах. Меченные
многолетним совместным навыком. Знают друг друга как облупленные. И разговор
ведут совсем не медицинский — каждый о своем, а больше о новой винокурне,
открывшейся на днях на берегу Иркута. А дело предстоит пустяшное —
освидетельствовать каторжанина, назначенного к пятидесяти плетям за попытку
побега. Вон и санитар, долговязый малый из семинаристов, готовит в углу кипяток
для чая.
Белоголовый замечает, что на него, старшего городового врача, местные эскулапы
украдкой то и дело поглядывают. Небось догадки строят, как поведет себя этот
молодой да ранний в каждодневности: одно — когда вчерашним студентом пребывал, а
другое — остепененный блестяще защищенной диссертацией. Да ведь не в России же
угнездился, а к отчему дому прикатил!
Читая все это по лицам сослуживцев, Николай Андреевич, однако, был спокоен:
первый совместный акт трудности, похоже, не представит. Санитар, водрузив на
широкую плаху стола большую закопченную посудину, уже разливал чай по тюремным
алюминиевым кружкам.
Ввели босого каторжанина в одних портках и длинной арестантской рубахе. Молодой,
его же, Николаева, возраста, еще не износившийся парень. Руки в колодках. Лицо
безбородое и если бы не заплывший синяком глаз, прямо сказать, взрачное. А
другой глаз в соседстве с синюшным правым — ни дать ни взять соколиный.
Белоголовый заметил, что парень выбрал взглядом из всех его и смотрел вызывающе,
не моргая.
Николай Андреевич взгляда не отвел. Была у него такая скрытная игра: кто
пересмотрит, тот и прав. Парень, как видно, принял эту игру. Секунды длились и
длились. Вдруг лицо каторжанина в глазах Белоголового начало как бы двоиться,
троиться веером игральных карт. Вокруг стояла тишина, и на одной из «карт»
явился Николаю Андреевичу лик Андрея, несчастного брата его учителя-декабриста
Петра Ивановича Борисова. Психика Андрея с далеких пор была уязвлена глубокой
меланхолией; всякий посторонний человек смертельно пугал его и загонял в закуток
избы. Видеться и говорить Андрей мог только с братом. А тот однажды
скоропостижно оставил этот мир. Андрей, увидев бездыханное тело, в приступе
отчаяния затянул на шее петлю… И вот теперь лик меланхолика вдруг предстал
Белоголовому, полный боли и страдания. А на другой «карте» — молящее лицо
женщины. Помнится, она распахнула дверь острожной больницы, держа на руках труп
сынишки — его с понтонного моста затянуло под тонкий в октябре лед Ангары… И
еще… Откуда они? Почему так чувствительны ему? Неужели всё это время жили в нем?
Но почему явились именно сейчас при виде здоровяка, обреченного на плети? Кто он
ему теперь — этот детина с фиолетовым глазом? Брат? Свихнувшийся декабрист? Весь
неоглядный Иркутский округ?
Николай Андреевич сдался, первым закрыл глаза, и видение исчезло.
А за столом ничего не произошло. Позвякивали в кружках меченные тюремными
дырками ложечки. Каторжник, казалось, меньше всего занимал врачующих.
— Приступим, господа, — сказал Белоголовый, трудно отгоняя наваждение.
Собранию, кажется, было ясно как день, что кроме лилового фингала под глазом у
этого молодца нет других недомоганий, и пять десятков плетей ему ничем не
повредят.
Николай Андреевич достал из кармана стетоскоп и велел солдату-стражнику поднять
рубаху каторжанина. Процедура длилась минут пять. После прослушивания было
простукивание груди и спины. Санитар подливал в кружки кипятка.
— Я считаю, господа, что наказания он может не перенесть. Сердце слабовато:
шумы, сбои… Да вы сами послушайте, — Николай Андреевич протянул стетоскоп
коллегам.
Изобретению французского диагноста Лаэннека минуло уже полвека, но иркутские
эскулапы только приобщались к диковинке. Они и увидели-то ее впервые в руках
ученого земляка. Четверо по очереди несмело водили пластиной стетоскопа по груди
и спине пациента. В рубахе, накрывшей голову, каторжанин стоял незавершенным
изваянием. Двое не преминули согласиться со старшим городовым врачом, третий
кивал на уши, мол, закладывает по утрам, и только четвертый заупрямился. Это был
акушер лет сорока, тоже из местных. Удивленно глядя на Белоголового, он твердил,
что ни шумов, ни сбоев у этого остолопа нет, и полсотни заслуженных плеток будут
ему как детская считалка. А если, мол, у старшего городового врача, помимо
обязательной врачебной истины, есть какой-то иной резон, то он ему не потворщик.
Тремя голосами против двух каторжанин был от плетей избавлен.
Во дворе тюрьмы, где пустовал помост с безработной ременной плетью, каторжанин,
как-то уломав стражу и улучив момент, подошел к врачу:
— А что, доктор, много ли мне осталось на этом свете?
Николай Андреевич потянулся к его уху, чтобы не слышал стражник:
— Еще меня переживешь.
«А ведь и было, было уже такое!» — больно стучало теперь в голове Белоголового.
Еще и в первой иркутской практике было. Недуги ранее пользуемых им людей, их
несчастья и пагубы вдруг разом сосредотачивались на очередном пациенте и будто
усугубляли его состояние; чуть ли не былью витали лица, искаженные страданием.
Кто-то являл неизбывную их череду. Больной, страждущий мир сталпливался вокруг.
И малой каплей в этом море виделся Белоголовому очередной страдалец.
Но тогда в Иркутске Белоголовый был еще очень молод, его сердце не отдавалось
такой острой болью при встрече со страждущим миром. А нынешняя нагруженность
бесконечными приемами, выездами к больным, деяниями созданного им медицинского
общества ослабила его организм и отозвалась сильнейшей тифозной горячкой. Врач
слег, и город тотчас ощутил тяжесть возможной потери. Весь наличный персонал,
включая акушера, почитал теперь за честь дежурить у постели больного.
Организм справился, но болезнь положила неизбывный след, время от времени
напоминая о себе. Пришлось оставить сибирскую практику, обезлюдевший после утрат
родных Иркутск, могилы незабвенных каторжан.
Родительское наследство было невелико, и Николай Андреевич, по смерти отца,
отказался от своей доли в пользу братьев, чем обрек себя на трудовую
скитальческую жизнь вольнопрактикующего врача, который сам едва справляется с
собственными недугами.
Поскитавшись по зарубежью, навсегда прикипев к европейской культуре, Николай
Андреевич Белоголовый в 1865 году оказался в Петербурге.
Вольно-практикующий врач
В столичной медицине царил молодой Боткин — приятель еще по пансиону. Уже начала
складываться его клиническая школа. Близкий к европейской традиции по своей
научной основательности, в Петербурге Боткин обрел статус увлеченного,
безоглядного и бескорыстного практика-диагноста. В Медицинской академии он
заполучил в свои руки терапевтическую клинику, что прозябала на Офицерской (ныне
— Декабристов), создал при ней лабораторию и пункт приема приходящих больных,
окружил себя молодыми соотечественниками. Наука врачевания, многолюдные
академические лекции Боткина сопровождались теперь каждодневной клинической и
амбулаторной надобностью. Такого плодотворного слияния науки с практикой и в
тогдашней медикопросвещенной Германии надо было поискать.
Авторитет Боткина в столице был непререкаем. Приходя домой к позднему обеду, он
едва мог протиснуться через толпу пациентов на третий этаж своей квартиры на
Загородном проспекте у Пяти Углов. До позднего вечера длился его врачебный
прием. Ходили по столичным весям боткинские капли, порошки и пилюли. Даже
боткинский квас на сухарях. Не зная устали, не видя вокруг себя ничего, помимо
медицины, Сергей Петрович только на своих неизменных боткинских субботах отходил
душой, выкуривал неспешную сигару и баловал гостей виолончелью.
Белоголовый поражался безоглядной устремленности приятеля в науку врачевания.
Сам он приехал в Петербург отнюдь не ортодоксом медицинской доктрины да даже и
практики. Он не мог обойтись без утренней газеты и политических новостей. Его
грели либеральные преобразования Александра II и бесил его же отказ дворянскому
собранию в созыве Собора Русской земли для довершения реформ. Не давали ему
покоя и последствия спровоцированной иркутским генерал-губернатором
Муравьевым-Амурским дуэли двух его чиновников особых поручений. Последствия этой
дуэли до предела обострили неприязнь «туземной» молодежи к «навозным»1 функционерам
генерал-губернаторского двора. Он не мог простить вмешавшемуся в этот конфликт
Бакунину угодничества всесильному чиновнику, а Герцену — что правда ему мать, но
и Бакунин ему Бакунин2. Его беспокоила не складывающаяся по
возвращении из Сибири судьба Александра Поджио… И, как вечно у Белоголового, эти
общественные недуги при каждом с ними столкновении вдруг распускались сразу
карточным веером, усугубляя его маяту.
Своего рода отдохновением случилась у Белоголового в мае 1866-го поездка на Урал
— в группе сопровождающих 23-летнего герцога, члена Императорского дома Николая
Лейхтенбергского, мецената и заядлого минералога. В тряских дормезах, в беседах
и спорах со спутниками проходило время дороги. В сопровождении бесконечных
делегаций местной знати и начальства группа посетила иллюминированный по такому
случаю Екатеринбург, его монетный двор, механическое заведение, гранильную
фабрику и пробирную палатку. Были знакомства: с главным начальником Уральских
заводов Иоссой, заводчиком Всеволожским, лекарем Миславским, богатым купцом и
бывшим городским головой Нуровым. Когда последнему задали вопрос: много ли город
играет в карты, он ответил каламбуром: «Играет, да и как же иначе? Нам сам Бог
велел: ведь Екатеринбург так и называется: уездный и горный город».
Потом были Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Кушва, Берёзовский… Поездка в
свите герцога на уральские города-заводы вышла после сибирской оказии последней
служебной миссией врача Белоголового. Всю дальнейшую жизнь был он сам себе царем
и подданным — вольнопрактикующим врачом.
Николай Андреевич поздно нашел себе подругу жизни. Ему было уже 37 лет, когда он
обвенчался и сыграл свадьбу с Софьей Петровной. Это случилось в Италии. Они, что
называется, нашли друг друга — так схожи были их души и так в унисон бились
сердца. В сохранившихся письмах друзей то и дело можно прочесть: «Белоголовые
считают», «Белоголовые решили». Детей у них не заводилось. А летом 1886-го из
далекой Сибири нагрянула беда: скоропостижно один за другим скончались брат
Аполлон и его жена, оставив на попечение судьбы и родственников десятерых детей.
Белоголовым достались два младших племянника Юзя и Ваня четырех и шести лет.
Помимо прочего, сразу скукожился семейный бюджет. Приходилось искать дешевые и
удобные места для обитания зимой и летом.
Теперь уже и нужда заставляла вольнопрактикующего врача жадно впитывать
боткинские уроки.
Практика Боткина являла его ученикам и самим страждущим небывалую доселе методу
подхода личностного. Болезнь — не катехизисная аксиома, учила эта практика. У
всякой болезни есть имя, биография, характер, темперамент пациента, сказываются
общественные даже его предпочтения — всё у болезни от ее «хозяина». Сколько
страждущих, толпящихся на лестнице и в прихожей боткинского дома в Загородном, в
амбулатории на Офицерской, столько, стало быть, и несхожих вариантов болезни,
именуемой каким-то одним общим признаком. И когда на прием выпадали минуты, а
доктор неожиданно интересовался: как тебе, дружок, сегодняшняя погода? или: что
это ты, любезный, все руки в карманы прячешь? — то и чиновный столоначальник, и
обитатель Сенного рынка оторопело на врача таращились.
Нельзя, считал Боткин, лечить только болезнь — надо лечить больного! Однако
своей методой ученый медик не столько исцелял, сколько наставлял врачеванию.
Белоголовый же явил себя Петербургу чистой воды практиком. И к нему
выстраивались негромкие очереди. И он старался следовать новейшим зарубежным
достижениям. И о нем пошла по столице молва как о докторе-бессребренике. Оба
медика являли непривычные принципы врачевания. У них были разные подходы к
недугу, но это не уводило их от главной цели. Боткин смотрел на больного как на
объект науки, Белоголовый же всеми способами помогал страждущему использовать
свои моральные и физические ресурсы. Вернув человека к его призванию, врачующий
возвращал его к жизни. На время, какое Бог даст. Свою методу Белоголовый называл
«объективной школой», «правилом». Это слово он произносил с ударением на «и» —
правило. Как свидетельствовал первый биограф и современник Белоголового
Григорий Джаншиев, они, эти правила, вовсе не походили на полумистический ритуал
у постели больного иных жрецов и шаманов медицины.
Но, проникшись методой Боткина — лечить не болезнь, а человека, — Белоголовый
как практик ранимо чувствовал некое бессилие этой методы ввиду нескончаемо
тянущейся очереди нуждающихся в исцелении.
Чтобы лечить больного, нужен с ним постоянный контакт, долговременное
общение. И судьба услужливо указала ему адрес: угол Литейного и Басманной. Здесь
после закрытия «Современника» зародился новый журнал Некрасова и Салтыкова —
«Отечественные записки». Здесь было средоточие демократического и разночинного
Петербурга. Тяга к общественным вопросам привела сюда и Белоголового — стал он
при журнале «домашним» врачевателем. Десятки литераторов, деятелей науки и
культуры пользовались услугами и дружбой терапевта и диагноста Белоголового:
физиолог Сеченов и скульптор Антокольский, художники Айвазовский и Крамской,
писатели Салтыков, Некрасов, Тургенев, Надсон, Гаршин, Плещеев, Писемский,
Полонской и еще многие другие.
Это было необременительное, хотя и довольно странное для обеих сторон
врачевание. Начиналось, как водится, с жалоб, осмотра, советов и микстур, но
как-то незаметно переходило в диалог. Николай Андреевич никогда ни с кем не умел
быть в полном согласии — такая владела им поперешность. Всегда тянуло чем-то
возразить, а если и кивнуть согласно, то непременно с оговоркой. То ли речь
заходила о политике, то ли о новом романе или картине. Любознательность и
осведомленность Белоголового не знали границ. Пациент, наскоро приняв, рассовав
по карманам или смахнув в стол пилюли, вдруг оказывался в творческой обстановке,
не менее врачующей, чем предписанные снадобья. Оба уже расхаживали по кабинету
или шли по Басманной, провожая один другого. Понимал ли пациент, да и сам
Белоголовый, по какой оказии отвязалось вдруг недомогание? Как выразился один из
его пациентов литератор-чайковец Феликс Волховский, «к отданной на его
ответственность человеческой жизни» Белоголовый «чувствовал всепоглощающий
интерес». Помощь в трудной ситуации, совет и участие у него были факторами
лечения куда более действенными, чем лечебные процедуры. Таким же правилом было
и то, что с литераторов за свои услуги денег он не брал.
Единственный разлад в лечебной методе у Белоголового чуть было не случился с
Боткиным. Приятели со времени пансиона были на «ты», ощущали друг друга рядом,
даже если их разделяли границы и большие расстояния. Но когда Белоголового
испугало самочувствие уже тяжело больного Сергея Петровича и он неосторожно
посоветовал ему хотя бы на время оставить клинику, тот сразу забыл приятельство:
— Что вы такое говорите? Как можно? Это мне подобно смерти. Вы этого хотите?
Белоголовый не хотел. И понимал душевное состояние друга: Ars longa, vita bravis3.
Он был и остался его наперсником в любой обстановке жизни. В числе совсем не
многих русских приезжал в Вену на бракосочетание Боткина. Был рядом душой и
мыслями во всех его житейских ситуациях. И в Ментоне — у постели умирающего
друга. На шесть лет пережив учителя, он нашел время и силы написать первую
биографию Боткина. Она вышла в 1891-м в биографической библиотеке издателя
Флорентия Павленкова, библиотеке, что выросла затем в знаменитую книжную серию
«Жизнь замечательных людей». В ту пору крестьянская Россия переживала неурожай и
голод. Уже и сам больной, Белоголовый затеял сбор пожертвований голодающим, и
первым его взносом стал гонорар, полученный за эту книгу.
Вот еще одно примечательное свидетельство врачебной практики Белоголового.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин явился к нему за советом угрюмый и
настороженный. Пришел в приемные часы для бедных — они тогда были только шапочно
знакомы. Осмотрев пришедшего, Белоголовый нашел у визитера уйму недугов и в их
числе порок сердца, застарелый катар легких и новообретенный ревматизм суставов.
Дело было в 1874-м. Властитель радикальных умов, один из трех столпов журнала в
эту пору не знал удержу ни в работе, ни в полуночных картах, ни во французских
винах. А Белоголовый успел прочесть в журнале его «Дневник провинциала в
Петербурге» и первые главы «Господ Молчалиных»4. Озадаченный
симптомами, он посоветовал сатирику ограничить вина и карты и прогуляться на
воды в Баден-Баден.
Салтыков решительно отверг все рецепты Белоголового. За границей, говорит, не
бывал и дороги туда не знает, карты его суставам не помеха… Ушел, оставив дверь
открытой. Но на теплых источниках Баден-Бадена ревматизм таки поуспокоил.
Годами дремавшие хвори нестерпимо и мучительно нахлынули на Салтыкова десять лет
спустя, когда в феврале 1884-го вышло запрещение «Отечественных записок».
Застарелое обострилось, но накатило и новое — дрожание рук и боли в глазах,
никак даже не связанные с поражением глазного аппарата. Читать не мог, почерк
стал неузнаваем, из слов выпадали буквы… Да и зачем читать, для кого писать?
Журнала нет — вот главный его недуг. А читатель, вчера носивший на руках?
Растаял без следа и звука. Вот донеслось из Твери: там несколько лет назад
либеральное земство устроило музей, а в нем установило бюст Салтыкова,
знаменитого уроженца Тверской губернии. Но знаменит он оказался ровно до
запрещения его журнала — бюст тотчас спрятали на чердаке. Будто и не было в
читающей России правдолюбца по имени Салтыков-Щедрин.
Белоголовые жили тогда в немецком городке Висбадене. Письма от Салтыкова со
стенаниями и мольбами о помощи шли чуть не каждый день. Наконец в июле 1885-го
он с семьей явился сам. Белоголовый не узнал сатирика. Поднялся ему навстречу
изможденный человек с бледно-желтым лицом. Протянул было руку, но тут же
бессильно опустился на стул и закрыл лицо руками. Из-под ладоней слышались то ли
всхлипы, то ли невнятное бормотание. Это был физически и духовно развинченный
организм.
Семья, состоящая из жены, сына и дочери, не была ему опорой. Дети сами нуждались
в лечении. У Елизаветы Аполлоновны в этот критический период возобладали худшие
проявления характера. Уход за больным был весьма своеобразным.
— Тебе, Миша, пора умирать, — говорила будто бы в шутку. — Ты стал очень
раздражителен.
Или, подавая лекарство:
— Ах, Миша, зачем ты все это принимаешь? Ведь ты все равно не выздоровеешь, ведь
ты умрешь.
Боткин, тоже принимавший в Салтыкове большое участие, удивляясь его
тридцатилетнему долготерпению, в то же время считал, что жена, как фосфор,
стимулирует мозг сатирика, поддерживает в нем раздражающее начало. Но в период
наступившего кризиса, видел Белоголовый, влияние семьи убивает Салтыкова. И он
предложил, отправив семью на французские морские купания, перебраться в две
освободившиеся комнаты их пансиона. Салтыков от признательности даже не прятал
слез. Никакой иной вариант уже не мог его спасти.
Теперь они жили, что называется, через стенку друг от друга. Вместе гуляли,
обедали, беседовали. На Салтыкова в этой обстановке нашел «тихий час». Сатирик
стал кроток и благодушен. Силы медленно, но возвращались к нему.
И, наверно, случился здесь сатирику благодетельный сон — нелепый и смешной, как
есть к выздоровлению. Не так ли, бывало, и сказки его, и «пестрые письма»
рождались — из снов и фантазий? Явился ему во сне Захар Иванович Стрелов, коего
сам же он и выдумал намедни для своего очередного «пестрого письма»5.
Но не вчерашний и не сегодняшний явился ему Стрелов, а будто живущий на рубеже
XX и XXI веков. И будто в эти-то его несообразные годы он, как прежде, еще
довольно проворно семенит ногами, да и руки у него еще цепкие, так что если бы
попала в них взятка, то он мог бы ее ухватить. Именно таким он был на некоторых
«пестрых» страницах. Едва получив офицерский чин, в качестве инженера строил
железную дорогу между Петербургом и Москвой. Сколотил шайку отъявленных
проходимцев, будто как строительную бригаду, и учил их, как обманывать и на чем
добывать себе «банк». Денег появилась такая масса, что не знали, куда девать.
Пошли пирушки, «афинские вечера». Словом сказать, извлекались из казначейских
кладовых деньжищи и исчезали неведомо куда. На одном деле шельмец погорел таки,
но и тут вывернулся. Вместо того чтобы забрить его в солдаты, начальство велело
добровольно подать в отставку.
И вот этот-то милейший дядя Захар и явился во сне якобы живущим как ни в чем не
бывало в самых первых годах XXI века. Шутка сказать, 130 лет спустя! За это
время казнокрадство и взяточничество обернулось уже хищничеством, и в этом
«новшестве» появились подразделения — мелкие и крупные, простые и сложные.
Приходилось только удивляться, как иной, коего знали без штанов, вдруг
миллионами ворочает. И Захар Иваныч тут вполне приспособился: жизнь опять
улыбнулась ему, как в пору ранней молодости!..
На этом Михаил Евграфович проснулся. «Ну, Стрелов, ах подлец, — почти что весело
негодовал он. — В эдакой-то пресветлой будущности да вдруг хищника углядел! — И
так же весело подумал: — А не сочинить ли мне пестренькое письмецо, а лучше
сказочку о таких вот Стреловых, что и в светлом грядущем человечестве норовят
свои допотопные порядки угнездить?» Одним словом, здоровехонек проснулся…
Белоголовый и Салтыков-Щедрин — особая увлекательная тема. Пример дружбы —
незабвенной, творческой и врачующей. Белоголовый всячески стремился
пропагандировать прозу Щедрина. Не по его ли наводке Михаил Элпидин, вольный
деятель русской печати, печатал в Женеве дешевые брошюры с очерками сатирика?
Белоголовый откликнулся на просьбу Щедрина посодействовать в переводе нескольких
его рассказов на французский язык. Николай Андреевич (правда, не только он один)
в целях врачевания побудил уже смертельно больного Щедрина взяться за
«автобиографический» труд. И, похоже, что именно довод друга-врача, коему
писатель доверял бесконечно, совершил едва ли не чудо. «…В последнее время, —
пишет Щедрин Белоголовому, — меня обуял демон писания, и я кой-что накропал из
старого материала»6. Так появилась «Пошехонская старина» —
произведение, завершенное перед самой кончиной «человеком полуразрушенным, на
которого глядеть тяжело» (Плещеев — Чехову)7.
После ухода писателя из жизни Белоголовый затевает издание его сочинений в
дешевом, доступном народу формате. В родной Иркутской губернии он при посредстве
брата Андрея инициировал для этого сбор средств в особый щедринский фонд и
обратился за издательской поддержкой в Петербургский комитет грамотности. Письмо
о содействии фонду было разослано во многие печатные издания, что сразу
насторожило цензуру и Синод. В письме руководителю цензурного ведомства
Феоктистову обер-прокурор Синода Победоносцев раздумывал по этому поводу над
тем, «какую бы установить опеку над так называемой народною литературой?» Между
тем сумма пожертвований уже позволяла начать издание. «Ценою двухлетних усилий
мне удалось упрочить… постоянный фонд имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, благодаря
сочувствию сибиряков, почитателей могучего таланта М.Е.», — из мемуаров
Белоголового. Но «опека» не дремала. Петербургский комитет грамотности, прежде
бытовавший под крышей Вольно-Экономического общества, срочно передали в
подчинение министерству народного просвещения. Плакали денежки и вся затея
Белоголового8.
Человек-невидимка
Осенью 1894 года Белоголовые вернулись в Россию. Московский дом Боткиных на
Маросейке встретил их родственным участием. Брат Сергея Петровича — Петр,
успешный купец-чаеторговец, отвел супругам пару комнат в своем доме. И Николай
Андреевич занялся устройством племянников в Лазаревский институт восточных
языков, не забывая по привычке просматривать газеты и журналы, отвечать на
письма своих корреспондентов.
Но уже близилась зима. Вернулись мучительные удушья и спазмы. Он держался, чтобы
не пугать жену. Когда чуть забрезжило новое лето, Петр Петрович увез его на свою
дачу в деревню Поповку. Но сил уже не было даже на то, чтобы встать с постели и
выйти во двор. Большой, обессиленный, он лежал в белой от солнца комнате.
Судорожно поднималась грудь, голова откидывалась вверх, норовя поймать дыхание.
Окна были настежь, а воздуха не хватало.
— Врачу, исцелися сам, — пытался он изобразить гримасу улыбки, когда над ним
склонялись Софья Петровна или Сергей, один из сыновей Боткина, приехавший помочь
в уходе.
Когда удавалось выровнять дыхание, он вспоминал почему-то Женеву, безлюдный
пансион близ реки Арв, что текла из ледников Монблана. Жаркими летами к 7-8
градусам ледниковой воды добавлялись иголки мелкого песка, которые река несла в
своем стремительном течении. Но после нескольких процедур погружения в ее стихию
ему возвращались растраченные столичной зимой силы.
В этом-то пансионе и случилась у Белоголового встреча с типографом Элпидиным.
Зашел разговор о новой русской эмигрантской газете. Ни на минуту не оставляла
его теперь эта драма последнего двадцатилетия жизни. Ни наяву, ни в беспамятных
видениях не давала ему покоя.
Стояло тогда в Женеве лето 1870-го. Уже три года, как замолчал «Колокол» и
Герцен покинул Францию. Русской прессы за границей практически не было. Но тогда
и у Элпидина с газетой не получилось.
А вот семь лет спустя, оказавшись весной в Берлине, Белоголовый в лавке
книгопродавца ухватил глазами свежий номер газеты «Общее дело» — того самого
издателя Элпидина. Не забыл, значит, он разговор в пансионе на реке Арв!
Воздух русской эмиграции уже дышал русско-турецкой войной и политическими
крайностями, творящимися в России. Радикалы торопили революцию. Даже Петр
Лавров, недавно покинувший родину, из своей парижской кабинетной тиши изрекал,
что открытая борьба за права личности начинает «эпоху прекращения закона
справедливости». В свою очередь самодержавие с его чиновниками и войском, почуяв
опасность, искореняло самый дух общественного самосознания. Террор неизбежно
порождал террор. Средний человек, который жил и работал на общее благо,
оказывался бессловесным между этими двумя огнями. А ведь только в эмиграции и
можно было свободно выговориться. В России печать, как ни изворачивалась, но
открыто обсуждать ничего не могла. А эмиграция после Герцена молчала.
Бессловесность в те годы стала духовным недугом Белоголового. Надо было во что
бы то ни стало прервать молчание.
И вот у него появилось от всех глаз закрытое дело — и дома, в России, и в
«гостях». За зиму насобирывал в столицах последних общественных новостей, а
летом, отходя от медицинской практики, курсируя по недорогим европейским
пансионам, излагал эти новости, как мог и умел, в статьях и отсылал Элпидину. То
professions de foi9, что Салтыков облекал в причудливую форму сказок,
лукавых «Писем к тетеньке» или сдобренных юмором «Пестрых писем», Белоголовый,
что называется, переводил на русский без экивоков и эзоповых хитростей. Русские
офицеры и чиновники, наводнившие Балканы, туристы и эмигранты всех мастей,
лечившиеся на водах и просто проматывавшие последние помещичьи или новые
«кулацкие» капиталы, на газетном безрыбье покупали и читали «Общее дело». До
«Колокола» «Общему делу» было далеко, но 500 ежемесячных экземпляров по Европе
таки расходились, при этом почти не заглядывая в российские пределы.
Между тем напряженные зимы вольнопрактикующего врача забирали у Белоголового
остатки физических сил. Да с этим-то недугом он, может, еще бы и справился, но
смертельно больной явила ему себя Россия! Вслед за целым рядом террористических
актов народовольцев (Степан Халтурин, Иван Млодецкий) произошло покушение и
смертельное ранение императора Александра II. Плачевные последствия этих
мальчишеств сказались тотчас. Полетели с министерских кресел творцы реформ
генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин, финансист А.А. Абаза, давний знакомец и
пациент Белоголового М.Т. Лорис-Меликов. Да что знакомцы! На миротворческую
политику этих министров, затаив дыхание, смотрела вся либеральная Россия!
Окружив двор в Гатчине частоколом сводно-гвардейской роты, выдал свой апрельский
манифест новый царь Александр III. Подпираемая штыками допотопная хламина
самодержавия продолжала стоять, но жить в ней становилось невозможно.
Ежедневные домашние приемы уже не только утомляли Белоголового, но и раздражали
против пациентов. Одна лишь женевская газета и виделась ему спасением. В 1881-м
Белоголовый смятенно и панически покинул Россию, считая, что оставляет ее
навсегда. Но и в зарубежных палестинах нигде не сиделось: то и дело менял места
жительства, выбирая дешевые и немноголюдные.
…В Поповке Белоголовый потерял ощущение дня и ночи. Проплывали лица Сергея и
Сони, незнакомых врачей-консультантов. Ему помогали сесть, чтобы принять
какое-то лекарство, проглотить несколько ложек супа или повернуться на другой
бок. Это были машинальные движения. Он даже что-то отвечал на вопросы, а Соне
пытался улыбнуться и погладить руку. Явь возвращалась только тогда, когда
застревало в груди дыхание, и он ловил воздух широко открытым ртом — всем
большим распростертым телом. А, поймав, закрывал глаза и оказывался в плену
видений, продолжающих явь.
Мир вдруг обернулся неземной обителью Плутона. Ее образ Белоголовый когда-то
нарисовал в своем стихотворении. Теперь его строчки нетленно стояли перед ним10:
В царстве тьмы, где, в угоду святым небылицам,
Будут жарить нас вечным огнем,
А царям и высокопоставленным лицам
Замежуют все лучшее в нем, —
На хлебах, в ожидании достойной награды,
Тени русских царей-молодцов
Впопыхах строят свиты свои на парады,
Шлют с приказами в Питер гонцов.
Разъяряясь, звонким голосом
Павел Мальтийский11
Потрясает подземную ширь:
«Задремал? Ввозят книги! Мятеж всероссийский!
Строй в шеренги, командуй: в Сибирь!»
Николай, проникая до Гатчины взглядом,
Поучает, как правил он сам:
«Пропусти пред собою их майским парадом
Да и крикни: мол, руки по швам!»
Александр напевает с отеческой лаской:
«Позаштопай дворянскую честь,
А народ пожимай… Только, Саша, с опаской,
Берегись, чтобы ноги унесть…»
Сюжеты, что тревожили его совсем недавно и бесцензурно облекались в текст его
статей, теперь оживали перед ним картинами-видениями, чередой облегчающих
фантасмагорий. Плутоновы чертоги сменились тронной залой в Михайловском дворце.
Стены в зеленом бархате, огромная печь отделана бронзой, а вокруг
краснобархатного трона — гербы российских владений и знамена Мальтийского
ордена, отраженные в огромном зеркале. В зале собрался целый сонм прошлых
российских царей-молодцов. Они и в подземном царстве продолжали наводить свои
порядки: слали гонцов в Петербург, и Плутон уже был у них на посылках.
То были тревожащие и в то же время врачующие видения, а когда дыхание больного
снова затруднялось, к нему возвращалась явь. Вспоминалось ему, как
разворачивались события, когда он скитался по зарубежью. Решился он тогда
инкогнито взять «Общее дело» на себя. Прежде всего, предложил Элпидину
ежемесячные 100 франков — на печатание номера надобились 135 — но взамен
потребовал, чтобы ни одна статья не появлялась на свет без его просмотра. Так на
долгие десять лет Белоголовый стал закулисным редактором женевской газеты
русских либералов. Знали об этом только считанные единицы ближайших сотрудников.
Может ли счастье быть горьким и мучительным? Утрами, когда в пансионе ли, в
номере ли недорогой гостиницы было тихо и безлюдно, он часами торопил свое
нелегкое перо. Полученные из России в письмах и газетах факты пытался обнажить и
очистить от пресловутого иносказания. Те факты, что вычитал в иностранных
изданиях или выспросил у здешних пациентов, он освобождал от излишней иронии и
излагал в своем, более объективном, понимании. Потом ревниво просматривал тексты
других авторов, посланные Элпидиным. Конституционные, законные начала, извечно
руководимые средним россиянином, в хрониках и статьях Белоголового резко
контрастировали с беспределом самодержавия и революционного анархизма. Он не
щадил ни тех, ни других. И невольными соавторами его при этом были, помимо уймы
рядовых, недавний министр внутренних дел Лорис-Меликов, язвительный сатирик
«Отечественных записок» Салтыков-Щедрин, изощренный в политике философ Петр
Лавров. Они не знали в нем редактора и публициста, а знали только врача, только
приятеля.
А червь сомнения точил! Нигде ведь при этом не стояло его настоящего имени.
Инициалы «Н.Б.» могли быть присвоены или отнесены кем и к кому угодно. Страх это
у него или ложь во спасение? Герцен ведь не прятался. Драгоманов тогда же
открыто редактировал женевское «Вольное слово». Не скрывал имени его близкий
друг Петр Лаврович Лавров, редактируя куда более радикальный «Вестник Народной
воли». Даже некий анархист Климов, не боясь, подписывал свою газетку «Правда».
Уж какими только словами ни клял Белоголовый свое «малодушие», считая, что
«скрытничал», «действовал из-за угла», «ломал комедию», «действовал не так, как
поступал до этого».
Мучительное было противостояние. Обеспечив себя столичной практикой материально,
он мог спокойно сжечь корабли и не возвращаться в Россию. Ни одна европейская
держава не признала бы его деятельность опасной, нарушающей ее законы. Тогда
зачем же прятаться? И тут говорила свое веское слово элементарная деловая
логика. Открытое имя непременно закроет для него главный источник информации,
отдалит многих старых знакомых, которые сейчас посещают его как давние пациенты
и беседуют без опаски, не подозревая в нем второе лицо. Не ведал ведь даже
Салтыков. Не брал в голову Лорис-Меликов. Невдомек было авторам «Отечественных
записок» и их оппонентам. Бескорыстный соотечественник, ежеминутно готовый к
услугам врач, приятнейший собеседник был вне всяких подозрений. Уж кому-кому, а
милейшему Николаю Андреевичу можно было без опаски открыть душу12.
Утомясь держать дыхание, он снова уходил в видения. Они опять несли облегчение,
возвращали больному его счастливое время газетной работы. Да, он не чувствовал в
себе писательского дара, понимал, что если прекратится прилив фактической и
событийной новизны, его перо тотчас потеряет силу и увянет, и он будет толочь в
словесной ступе избитые фразы.
Призраки прошлого продолжали крутить калейдоскоп событий.
Вот хоромы Плутона превратились в дровяной двор. Входят царь Александр III с
наследником, оба в красных рубахах-косоворотках, в полушубках и с топорами за
кушаком. Они извлекают топоры и принимаются в поте лица колоть дрова. А забор у
двора щелястый — бабы, мужики, малышня сбежались со всей Гатчины, приникли к
щелям и дивятся: где, мол, такое видано, чтобы государь с наследником сами для
своих покоев дрова запасали? И никакой им подмоги, сами и поленницу кладут. И
отдыхают, сидя на чурбаках. Царь-то, кажись, самокрутку ладит. Знать-то,
дроворубам своим не доверяют? А что, мол, у мужика с топором будет на уме? Вон
папаша-то царев не поостерегся…
В Петербурге по поводу самоличной рубки дров толковали разное. Одни говорили: «У
нас теперь царь дрова колет, а министры ворошат пустую солому», — а другие
гадали, знаменует ли это упражнение в рубке дров сближение царя с народом или
аллегорическое уподобление его Петру Великому в наряде саардамского плотника?
А между тем двор дровяной преобразился в царскую резиденцию времени гатчинского
же «заточения». Идет торжественное действо. Императрица с 14-летним наследником
выходит к народу. Когда приблизились к одной крестьянской депутации, то мужички
в порыве подобострастия, как по сигналу, вдруг упали на колени. Наследник,
бледный и дрожащий, от неожиданности испуганно кинулся за спину матери и
ухватился за ее платье — насилу могли успокоить...
Видениям не было конца. Теперь чертог Плутона явил Белоголовому пустой
гимназический класс со столами и скамейками. За одним из столов демократично
поместился сам директор гимназии, а перед ним стоял крестьянин, держа в одной
руке картуз, а в другой руку сына-подростка, коего привел записать на обучение.
— Ты мне своего оболтуса не суй, вижу, каков, — говорил директор. — Ты мне
наперед бумагу представь по министерскому циркуляру.
Крестьянин перебирал картуз, не понимая.
— Десять пунктов. Сам-то умеешь до десяти? Тогда вот тебе вопросник: в каком
состоишь сословии и сколько классов прошел.
— Значит, крестьяне мы...
— Слушай, не перебивай: чем в городе занят, сколько лет от роду, каков доход
имеешь? В доме сколько у тебя комнат и какую прислугу держишь? Кто еще у тебя в
семье, да поименно назови, сколько годов каждому и чем заняты? Живет ли в доме
кто, семейству не принадлежащий? К какому занятию полагаешь оболтуса своего
приспособить? Готов ли плату за обучение исправно вносить, учебники и форменное
платье ему справить? Кто именно и как будет сынка твоего в доме наблюдать?..
Заполнишь, любезный, по циркуляру, тогда и приходи.
Брезжит в видении Белоголового город Оренбург. В 1887-м в первом классе реальной
гимназии открыты были четыре вакансии. Накануне в городе закрыли юнкерское
училище, упразднили военную прогимназию, параллельные классы в гимназии
классической город субсидировать перестал. То есть на среднее образование в
семидесятитысячном Оренбурге могли претендовать четыре счастливчика, чьи
родители угодят начальству ответами на десять министерских заповедей.
А в русских газетах — ни строчки на эту тему. Видно, в России выступать в защиту
среднего образования — есть поступок, потрясающий основы государства. Словом,
все шло к тому, чтобы в том же 1887-м появился циркуляр министра народного
просвещения об ограничении приема в гимназии так называемых «кухаркиных детей».
А в какой-то иностранной газете вдруг резко увидились Белоголовому ехидные
строки о том, что со стороны революционеров несправедливо и жестоко посягать на
жизнь Александра III, который с поры своего вступления на престол был их
сообщником и ревностно служил делу революционной пропаганды.
…Грудь в очередной раз схватило так, что уже отлетели прочь видения и душила за
горло явь. Что-то клокотало внутри, а распахнутые глаза Белоголового стеклянно,
как окуляры, ловили предметы уходящей прочь жизни. Горел ночник на столике возле
его кровати. На кушетке, что напротив, не раздеваясь, спал сын Боткина Сергей.
Из переднего угла в мерцании свечи глядел лик Николы-угодника. Боткин молчал со
стены… Вот еще, еще одно судорожное движение, вздернется тело — и все.
Но в клокочущей груди удалось-таки на пару минут поймать дыхание. Оно судорожно,
с хрипом билось теперь, возвращая жизнь. И память — тоже. Конечно, о последнем
времени его никчемного детища — «Общего дела». «О-общего…» — клокотало в груди,
и лицо исказила гримаса страдания. То-то и оно, что газета была только его
радением и мукой. За ней не стояло ни «партии», ни даже маломальского ополчения.
И некому было поплакаться в жилетку, попросить совета. Вспомнилось, как, при нем
же небрежно листая газету, иностранцы каламбурили, именуя ее «генеральской
козой» — по-французски название звучало «Сause Generale». Зная никчемность
Элпидина, читатели могли только праздно гадать, какой же «генерал» стоит за этой
бодливой животиной.
Белоголовый душу мог излить только брату. То бодрился, радуясь, что газета
«пользуется симпатиями» в Болгарии, ибо только она одна и пытается примирить
русских с болгарами. То жаловался на отсутствие свежих сотрудников. То она у
него «изрядная», то «чахоточное детище»… Наконец в 1887-м сообщает, что на 101-м
номере готов прекратить. Но все толчет и толчет в ступе аж до 1890-го. Дальше не
было сил ни физических, ни душевных.
А умирать приехал все равно в Москву, к могиле Боткина…
…После очередного приступа удушья ему выдалась толика покоя. И опять поплыли
видения. Подземный Плутонов мир обернулся московской площадью с Кремлем вдали и
колокольней Ивана Великого. Площадь заполонили купеческие обозы, и несется
благовест.
Вдруг звон колоколов дребезжаще рассыпался, и вот уже в какую-то пустоту барака
откуда ни возьмись выкатился вертящийся медный таз и раздался заливистый детский
смех. Белоголовый увидел в глубине долговязого парнишку лет десяти-одиннадцати в
крестьянской, вышитой на вороте и рукавах рубашке, перепоясанной ремешком с
пряжкой в форме груши — точно такой ремешок привез ему когда-то отец из
очередного торгового вояжа в Москву. Ба, да ведь это он сам, одиннадцатилетний
Коля Белоголовый! И было это в том самом бараке, что стоял в центре городского
сада на берегу Ангары в Иркутске и где заезжая труппа давала первое в городе
театральное действо — спектакль под названием «Купец Иголкин». На афише, помнит
Белоголовый, было разъяснено, что если какой актер появится на сцене в пьяном
виде, то чтобы зритель не подумал, что он действительно пьян и не посылал бы за
околоточным.
«Ну и киятр, — говорил отцу обратной дорогой их кучер Кузьма. — Купец Иголкин у
меня армяк-то и выклянчил. Говорит, послуга за послугу — пущу смотреть без
платы. Только, вишь, он ему маловат пришелся».
Так вот чем врачуют его миражи прошлого — вдруг открылось Белоголовому. Все, им
писанное — это есть «киятр», «зрелище», «позорище», как еще судили иркутяне!
Именно такой конфуз и случился тогда в храме Мельпомены на берегу Ангары: медный
таз, призванный производить колокольный благовест, выскользнул из рук звонаря с
деревянной колотушкой и, гремя, выкатился на сцену.
Все внешнее в этом мире — театр, жестокие игры недоумков, политических и
властных лицедеев. А караван идет. Жизнь вершится в ее глубине, пусть медленно и
трудно. Да, за тридцать лет после благодетельной реформы материальная жизнь
мужика мало изменилась, но несомненно, что это уже не «святая скотина».
Безотказный в любом хозяйском деле кучер Кузьма… Отец, трудно и медленно
добывавший на сибирских пространствах купеческий достаток семьи… Колины
наставники-декабристы, расточавшие сибирякам свое достояние, материальное и
душевное… Сколько их, закулисных, прошло перед ним на его веку! Они не унизили
свое достоинство ни эксплуатацией ближнего своего, ни безволием
эксплуатируемого. Несть числа и края этому поистине золотому серединному
трудящемуся сословию, увы, мало задетому балаганным пером «Общего дела». Листая
его хроники, далекий потомок только светло улыбнется первобытному историческому
лицедейству.
Губы еще успели произнести:
— Scripta manent13.
Белоголовый уходил из мира сего просветленным. Мальчишкой в расшитой узорами
холщевой рубашке, перепоясанной ремешком с застежкой в виде груши.
На погосте московского Покровского монастыря они лежат рядом — Боткин и
Белоголовый, два бескорыстных русских болеутишителя. На могиле Николая
Андреевича, у скромного надгробия, живет соотечественница — мягкоигольчатая
сибирская пихта.
1. В Иркутске той поры то и дело скрещивали шпаги адепты
двух противных «партий»: туземной и «навозной», состоящей из прибывших из столиц
чиновников, крепко опекаемых генерал-губернатором Муравьевым-Амурским.
2. По поводу дуэли и ее последствий возникла целая
дискуссия, отраженная на страницах «Колокола». М.А. Бакунин, сосланный в Иркутск
на поселение, в этом споре выступил на стороне своего дяди Муравьева-Амурского.
Белоголовый, чтобы внести ясность, добился встречи с Герценом и изложил свою
позицию. «Я вам верю, — вспоминает он слова Герцена, — но вы поймите сами, что
печатать мне теперь какое-нибудь разоблачение против него, когда он в ссылке и
не может ничего сказать в защиту своих поступков, было бы с моей стороны более
чем непростительно. Правда — мне мать, но и Бакунин — мне Бакунин».
3. Искусство (наука) обширно, жизнь коротка (лат).
4. В журнальном варианте цикл очерков носил название
«Экскурсии в область умеренности и аккуратности».
5. М.Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. В 20 тт. Т. 16. — М.,
1974. — С. 357–375.
6. М.Е. Салтыков-Щедрин. Указ. соч. — Т. 20. — С. 367.
7. Записки Отд. рукописей Государственной библиотеки СССР
имени В.И. Ленина. Вып.VI. — М., 1940. — С. 73.
8. См.: Вопросы литературы. 1976. — № 8. — С. 315–317.
9. Исповедание веры (франц.).
10. Стихотворение Белоголового «В царстве Плутона» было
опубликовано за подписью «Н.Б.» в газ. «Общее дело» (1887. № 96). Комплект
газеты «Общее дело», принадлежавший ее официальному редактору А.Х. Христофорову,
хранится в ИМЛ (Институт мировой литературы). Его же рукой помечены и авторы
большинства статей, подписанных псевдонимами и криптонимами. Из номеров «Общего
дела» взяты и все последующие сюжеты видений Белоголового.
11. За два с небольшим года до гибели император Павел I был
избран великим магистром Мальтийского ордена. Он мечтал об идеальном рыцарском
союзе, где процветали бы христианское благочестие и безусловное послушание
младших старшим.
12. Позднее народоволка, а потом марксистка Вера Засулич
признавалась: «Если бы мы знали, откуда черпает «Общее дело» свои рассуждения,
мы ими, вероятно, заинтересовались бы; а так казалось, что хорошие, конечно,
люди Христофоров и Зайцев (гласные редакторы журнала), но откуда им знать,
когда, какого министра и какими словами обругать следует?» (Засулич, Вера.
Воспоминания. — М.,1931. — С. 102–103).
13. Написанное остается (лат.).
Замеченный Петром и канувший в забвение, или зигзаги судьбы майора Аничкова
Этот рассказ — по существу, рожденная воображением автора легенда, попытка
окунуться в исторический колорит далекого времени, в дни, когда жил некий майор
Аничков. Мост, носящий имя этого человека, — вот, пожалуй, и все, что
документально осталось о нем в истории Санкт-Петербурга, колыбели русской
культуры. И вот автор делает попытку воссоздать живой образ.
К майорскому обличью своего Михайлы Осипыча Таисья еще не привыкла и даже робела
перед ним. Вот и нынче, провожая мужа на мост, величала на «вы» и остерегала, не
лясничал бы перед начальством. Ведь день-то какой — первый конь по мосту!
— Не брали бы пику-то, батюшка, — кричала уже вдогон. — Да парик-от, парик-от
съехал! — и крестила, крестила мужа вслед.
Чуть хромая, он шел от своей усадьбы по свежемощеной Першпективе1,
кивнул вытянувшемуся сторожевому солдату Митину у жердяного шлагбаума,
загородившего выезд с моста на парадиз2. Направляясь на левый берег
ерика, он стучал по мосту своими тупоносыми башмаками, и мост пружинил под ним.
Вода не слышалась внизу под крепким уже ледком. А в слободе, едва проступавшей
строениями в хмуром рассвете, уже звучали команды — батальон строился к его
приходу.
Майором Аничкова (в старину Аничковы писались Оничковыми) ублажили за вот эту
самую слободу, которую он возвел для своего адмиралтейского работного батальона.
Сам главный начальник флота генерал-адмирал и тайный советник Федор Матвеевич
Апраксин к патенту руку приложил. И то сказать, лихо было сработано. За
месяц-другой на берегу Безымянного ерика3, на унавоженном месте
прежней финской деревушки, сосенками взявшемся, у самого то есть паромного
перевоза на Першпективу слобода нарисовалась. Помнится, взял тогда Аничков в
руку алебарду на трехаршинном древке, засучил рукава и мерной саженью зашагал по
кочкарю. Срубит сосенку и указует прапорщику-сопроводителю: «Здесь себе дворец
ставь». Еще отшагнет по ровной: «А здесь экс-поручика Соснова будет усадьба…
Туто-ка Федьку-каптенармуса поселим». Ну ни дать ни взять Петр на Берёзовом
острове. Прапорщик только кулаком грозил за спиной солдатам, чтобы в ладонь
прыскали: не дай Бог до царя дойдет аничково шутовство.
Каждого солдата в своей команде знал Михайло Осипыч по имени и в лицо и всех по
ерику расселил. Потом они в охотку и споро рубили себе «дворцы». Если
жердей-бревешек недоставало, возили на клячах остатки раскатанных шведских
строений, что на Охте-реке. Когда шведов здесь Шереметев одолел и городок их
Ниеншанц разметал, много всякого добра и пленных ему досталось. Мужиков к
адмиралтейской службе приноровили, жен их — в услужение, а безмужних женщин
адмиралтейские же служивые себе в жены разобрали. Глядишь, и в аничковой команде
кое-кому пофартило.
Слобода встала на любой вкус. Флотско-гренадерский дистрикт. Вся по Аничкову.
Михайле Осипычу и его батальону где ведь только ни довелось. Набирали его с бору
по сосенке, из разных строевых полков: пехоты, драгун и флотских — кого по
малому увечью, кого за провинность, а иного из тех, кто к топору больше
прилежен, чем к фузее. Даже «навигатор» был в его команде — бывший поручик
Соснов. По цареву хотению учился в Голландии морской и прочей мудрости, но там
же и пьянством проштрафился. А под рукой Аничкова дюже пригодился. Словом, на
воде и на суше держались аничковцы молодцами. Одинаково умели топором, теслом4,
конопаткой, молотом. И на воде не плошали. На остатке трудового дня иные брались
за весла и собирали на мелководье булыжники для мощения первых улиц будущей
столицы-крепости. Совсем юному еще Петербургу рабочие руки везде надобились. И
дома в Аничковой слободе были каждый на особицу — какой-либо отметиной своему
хозяину угодил.
Утренние упражнения батальона были у Аничкова непременными — время-то военное5.
По пройденному им самим артикулу Преображенского полка. На малой площадке из
жердяного настила его солдаты — фузелеры и гренадеры — в кафтанах темно-зеленого
сукна, кто в черных поярковых треуголках, а кто в кожаных касках со страусом
ухитрялись на манер немецких пехотинцев каждодневно имитировать неразрывный
строй, ровный шаг, метание фитильных бомбочек, дружную ротную пальбу из фузей и
даже атаку с примкнутыми багинетами (штыками). Аничков при этом стоял в мундире,
обшитом золотым галуном, при белом полотняном галстуке, шарфе с кистями и в
шляпе с плюмажем из перьев. В руке непременный в упражнениях протазан — копье на
трехаршинном древке.
Это были минуты его возвращения в совсем недавнее и такое невозвратное прошлое…
Родной Преображенский полк. Тогда под крепостью Нарвой тоже стоял ноябрь, но во
всю ивановскую гуляла метель, и град швырял картечью. Осаждавшие крепость, едва
не на семь верст растянутые русские войска вдруг сами стали жертвами
стремительной шведской атаки в центре. Плохо еще обученные, не испытавшие
шведского настырства новобранцы свежесформированных полков заметались в панике.
Им всюду чудилась — и не без причин — измена иностранных командиров. Первой
кинулась бежать вплавь хваленая дворянская конница боярина Шереметева, державшая
выгодную позицию на левом фланге и чуть ли не в шведском тылу. Сотни конников
остались в водах реки Нарвы. С трудом расстреляв немногие снаряды (колеса и оси
орудий не выдерживали и четырех выстрелов), артиллеристы оставили шведам свои
пустые пушки, гаубицы и мортиры. Пехота, скучившись на мосту, рухнула вместе с
ним в воды реки. А безукоризненные ряды шведского наступательного строя только и
терпели урон на опасном для них правом фланге. Там беспримерно до ночной темноты
стояли батальоны лейб-гвардейских Преображенского и Семёновского полков.
Поддавшись панике, сдались в плен главнокомандующий герцог фон Круи и командир
преображенцев полковник Блюмберг. Но, невзирая на хаос отступления, огородившись
рогатками и брошенными артиллерийскими повозками, преображенцы ломали и
отбрасывали одну шведскую атаку за другой, а потом сами поднимались в штыки…
Бомбы Аничкова и острый его багинет тоже исправно делали дело. Потешная Петрова
выучка брала-таки свое.
Сюда на густую пальбу и звуки боя ринулся через разбитый болотный кочкарник
шведский король Карл XII. Упал, обессилев, конь, потеряна шпага, остался в
рытвине ботфорт… Но вот он уже среди солдат и офицеров, в стремнине боя, под
пулями и взрывами бомб! «А где же mon heer6 Алексеевич, затеявший
рискованную нарвскую баталию? — рвалось вечно и теперь из груди Аничкова. — А он
со своим фельдмаршалом Головиным хоронится за древними новгородскими крепостными
стенами. Ему под пули не с руки...»
И вот тогда-то дурная в пурге и темени свейская пуля, казалось, нелепо и
безобидно задела лодыжку гренадера Аничкова — только обопнулся. Ни перевязки, ни
тылового обоза.
Были у него потом и другие сражения: осада Нотебурга в 1702-м и новое нарвское
одоление в 1704-м… Но на одном из учений батальонный командир майор Долгоруков
углядел-таки хромоту сержанта Аничкова и доложил по инстанции. Его наградили
солдатской серебряной медалью «За верность и мужество», произвели в младшие
офицеры и велели набирать адмиралтейскую строительную команду. Вот тогда-то
Михайло Осипыч раз и навсегда решил, что дурная нарвская пуля досталась ему не
от Карла XII, а прилетела аж из-за новгородских стен, где хоронился Петр, отдав
руководство осадой немецким генералам. Из гренадера-преображенца, обретшего под
Нарвой красные чулки7, да в заурядные плотники адмиралтейского
стройбата?! Этого Аничков mon heer`у простить не мог.
Здравым солдатским умом понимал и даже одобрял Аничков тактику царя под Нарвой.
«Все то дело, — читаем и мы в «Журнале или поденной записке Петра Великого», —
яко младенческое играние было». Надобился тогда царю перед грядущей Северной
войной жестокий урок необученным и необстрелянным рекрутам новых его полков,
нужна была кровавая «конфузия». А Карлу хотел он дать иллюзию легкой виктории и
сказать мерси за урок. Не столько воителем явил себя Петр под Нарвой, сколько
мудрым державцем. Многое в этих болотах было испытано им и проверено на
прочность. Собственно, новая российская армия здесь и почалась в тяжелейших
родах. И дальнейшие победы, увенчанные Полтавой, тому ведь явная наглядность.
Но Аничкову-то, впитавшему с юных ногтей «потешную» военную науку молодого царя,
каково было стать нелепой жертвой нарвской «конфузии»? На веки вечные
угнездилась в нем мучительная, но неодолимая поперешность царевым затеям.
Выражалась, правда, только на словах, в рискованных шутках и ерничестве. Страдал
от них Михайло Осипыч, а избежать не мог. Накатит бессонница, и вопрошает он
себя ночами: «Кто ты есть, гренадер Аничков: опора и порука царя Петра Великого,
али ты шут гороховый?»
— Как колешь, Свистунов! — неслось над слободой. — Багинет далеко впереди тебя
бежит и силы не имеет. Ты им не шведа рачишь достать, а сам от шведа хоронишься.
Вот я тебя сошлю на плясовую площадь8 под monheer`овы палки.
Холостая пальба аничкова батальона ежеутренне будила пустынное левобережье и
противоположный, уже столичный, берег Фонтанного ерика.
Ныне предстоял команде Аничкова последний контрольный осмотр возведенного ею
моста. Начиная рабочий день, Аничков ерничал, имитируя речь Петра под Полтавой:
— Воины! Потом трудов моих создал я вас… Се пришел час, который должен решить
судьбу отечества….
До указа Петра строить стабильную переправу на Фонтанной реке примеров на
Невской дельте, кажется, и не было. Царю мечталось всех приохотить к воде —
паромам, лодкам, баркам и верейкам. И будущий город гляделся ему этакой северной
Венецией. Да и то надо помнить, что заболоченную сплошь округу куда сподручнее
было одолеть водной «улицей». Мостов, не считая пары-тройки наплавных, до указа
и не виделось. Разве что через Болотную протоку (позже река Ждановка) на
Столбовом острове (позже Петровском) — от двух «увеселительных» домиков царя на
Берёзовый остров в 1710-х мосток изладили. Так что оглянуться гренадеру с
топором было не на что. А Большой першпективной дороге (будущему Невскому
проспекту) мост через Фонтанную реку нужен был уже позарез. Этой дорогой
стягивалась к Адмиралтейству и крепости вся строительная снасть, и
паромно-лодочная переправа каждодневно собирала по обе стороны уйму людей и
повозок.
Мост по указке «навигатора» Соснова возводился весело и споро. Аничков при
начале работы подначивал: «А не отдохнуть ли нам, братцы, от ночных трудов?»
И сам сразу оказывался там, где то ли рук недоставало, то ли головы. Если
замешкался кто, Аничков снова тут как тут: «Что-то, гляжу, капрал,9
больно сытно тебя шведская женушка потчует. Поди одними корабельными блюдами от
mon heer`a и Апраксина?» Или еще другого подначит: «А ты, Канарейкин, не
садовником ли к mon heer`у ластишься в Летний сад? Али на monheer`ово винопитие?»
Если подходит время обеда, от Аничкова слышится: «Ну что, братцы? Нагрели
лбы-то? Не потрудиться ли нам за трапезой в поте лица своего?»
И вот он, первый мост, ждет первого коня. На погруженных в воду, а теперь
схваченных льдом срубах-обрубах намощено в ряд едва не восемьдесят саженей
ошкуренного свежесоснового длинника, сцепившего оба заболоченных берега
Фонтанного ерика. Поперек бревенчатого настила — ряд трехсаженного пластинника10.
А поверх пластин весь мост настелен широкими досками. На перильные балясины
положены гладкоструганные брусья. Подъемные щиты открывают под мостом путь
санно-лодочному транспорту.
Ждали царя. Ему бы первому и проверить мост ногами и колесами. Да, слыхать,
занемог. Днями не выходит из своих Красных хором на Аптекарском острове. Ждать
так только до обеденной поры. А не он ли вон под видом шкипера?
Аничков не дает батальону ни стоять, ни прохлаждаться. Его команды следуют
направо и налево. Щиты поднять, проверить и надежно закрепить. Метлой пройтись
по настилу. Прибрать инструмент и себя привести в порядок.
Слышатся такие речи: «Гляди, устроит нам mon heer фейерверку». И еще прозвучало:
«Mon heer мостов не любит. Ему бы здесь, на болоте, Венецию либо Амстердам,
чтобы все плавало-качалось».
А тут вдруг докладывают: щит, мол, не ходит, стопорится чем-то у самого льда
посередь ерика. У перил собралась толпешка солдат. Аничков тут как тут.
— Сердюков! — кричит солдату. — Спустись мигом, глянь, что там за оказия неровен
час.
— Слушаюсь, господин майор!
Спустили лестницу на лед, держат, чтобы по льду не поехала.
Сердюков кричит наверх:
— Лед непрочен, господин майор.
— Экой ты, Сердюков, неученой: своей левой ноге веришь, а не государеву
барабану. Еще вчерась били, что все воды на Неве стоят. Mon heer`ов дядька
посередь Большой Невы трепака задавал. Вперед, Сердюков!
Солдат опасливо ступил на лед и заскользил к срубу. Но у самого обруба вдруг
плясанул-поскользнулся и всей тяжестью тела рухнул на лед. Раздался треск, и
черная вода мигом образовала полынью. Сердюков ловил руками бревна сруба,
пытаясь за что-то уцепиться, но сразу намокшая амуниция тянула его вниз.
Аничков первым скатился по лестнице — ахнуть не успели. Держась за ступень, он
пытался подать солдату руку, но и лестница ходила уже в воде. Майору ничего не
оставалось, как спрыгнуть, чтобы дотянуться до руки Сердюкова. Лестницу он не
отпускал. Солдаты наверху с суетой и гамом уже поднимали ее наверх. Другие
распластались на мосту, и дюжина рук тянулась к командиру, тащившему за собой
Сердюкова.
Когда оба, наконец, оказались на мосту, картина явилась трагикомическая. С обоих
текло. В башмаках хлюпало. Парик с Аничкова слетел и плавал в полынье рядом с
кожаной гренадерской каской.
Их тотчас увлекли в караульный шалаш, где теплился глинобитный камелек.
В ту же минуту у караулки спешились три всадника, а по мощенной камнем
першпективе простучала к мосту колесами и встала карета.
— Построить батальон! Где командир? — кричали спешившиеся.
Из кареты вышли и предстали перед строем собственной персоной Петр Великий,
генерал-губернатор Меншиков и начальник флота граф Апраксин. Доклада не было.
Сопровождавшие царя искали глазами Аничкова. Им что-то пытались объяснить.
Благо, царь не смотрел ни на строй, ни на суету, а широко зашагал по мосту и
оглядывал округу с его середины. Меншиков следовал за ним.
— Хороша беляна11, — сказал. — Да не плывет. А ведь пора нам, Данилыч,
твердыми мостами обзаводиться, чтобы хоть что-то не шаталось и не ходило под
ногами. А? — обернулся к Меншикову. — Семеновцы, — кивнул в сторону недалеких
казарм Семеновского полка, — тоже пусть с накатом поспешают. — И зашагал к
строю. — Командира почто не видать? — обратился к Апраксину. — Майор Аничков,
говоришь?
Из караулки тем временем вышел и тоже шагал к строю Михайло Осипыч. Был он в
чужом камзоле, мокр снизу по пояс, с обнаженной, без парика, головой.
— Да ты никак пьян, майор? — насупился царь.
— Твой барабан врет, mon heer? — громко, по-строевому выстукал зубами Аничков.
Один из приближенных потянулся к цареву уху и что-то долго говорил. А царь при
этом недовольно смотрел на Аничкова.
Округа молчала. Недвижно стоял строй. Притихла толпа, собравшаяся у караулки.
Замерла в той толпе Таисья, прижавши кулаки к груди.
Петр смерил Аничкова с ног до головы. Заметил, видно, красные его чулки.
— Преображенец? И под Нарвой был? А зачем не в строю?
— Пуля, mon heer…
Кто-то опять потянулся к уху царя. Тот вдруг громко захохотал:
— А почто сам в воду-то полез? — И тут же посерьезнел. — Справный у тебя мосток.
Спасибо, гренадер.
Аничков молчал. И ветер шевелил на непокрытой голове седые клочки волос.
— Сколько он в майорах? — спросил Петр Апраксина и, не дождавшись ответа, шагнул
к Аничкову вплотную, поцеловал в голову. — Завтра проснешься подполковником.
И отпустило округу. Все сразу пришло в легкое движение и в голоса.
Таисья закрыла лицо ладонями и всхлипывала облегченно. Но тут же спохватилась:
да ведь он мокрый весь! Его в караулку надо! И домой, домой!
— Михайло Осипыч, родной! — закричала заполошно.
По мосту застучали копыта лошадей и колеса кареты. Кортеж, миновав мост,
развернулся, снова дробанул по мосту и с гиком полетел в парадиз мощеной
першпективой. Уже и несколько повозок ждали очереди на проезд.
Мост Аничкова низко нависал над водой — даже не косая сажень. Только лодке под
ним и пройти, а лодочнику — пригнуться. И шириной был скуповат — не давал
разъехаться даже двум подводам, и аничков часовой шпагой своей давал зеленую
улицу то правому, то левому берегу. Но длинен был, нынешний ему не чета — не
только ерик обнимал, но и оба его широко заболоченные берега.
Аничкова стабильная переправа сразу умалила наплавные и паромные, восстала
против хляби, в коей тонула новая столица. И берегам Фонтанки одного моста
оказалось мало, тотчас вслед за ним соединили ее берега Семеновский и Обуховский.
С него началась славная история петербургских мостов.
А имя гренадера-строителя полвека едва ли не в одиночестве витало над округой
серединной Фонтанки. На подступах к Петрову парадизу можно было услышать такой
диалог:
— Скажи-ка, служивый, как мне на Аничков мост пройти?
— Это, господин хороший, дешевше пареной репы. Как Аничкову-то слободу
прошагаешь, так тут тебе и мост.
— А в слободу-то как?
— Да ведь я и говорю: к мосту подступишь, слева и будет Аничкова слобода.
Свою (Аничкову) усадьбу Михайло Осипыч поставил невдали моста со стороны
столицы. Вдоль усадьбы от Садовой улицы до Фонтанки параллельно Першпективе
(Невскому проспекту) Аничков переулок образовался (ныне ополовиненный пер.
Крылова). Императрица Екатерина I в 1726 году распорядилась выстроить прямо
напротив Аничкова шалашного поста — Караульный дом. Пятнадцать лет спустя, тоже
ноябрьским днем, свершился дворцовый переворот, и на штыках Преображенского
полка вступила на престол дочь Петра — Елизавета. Штаб преображенцев
располагался в том самом Караульном доме. В память о преображенской виктории
императрица вознесла на месте караулки Аничков дворец для своего фаворита
Алексея Разумовского. Были, говорят, на входе ли, на выходе ли с моста Аничковы
ворота на Невском, да недолго простояли.
Еще судачат, благоволила, мол, Аничкову племянница Петра государыня Анна
Иоанновна (1693—1740), и мост в ее пору остряки именовали Аничкиным.
1. В начальном Петербурге участок от Адмиралтейства до современной площади
Восстания (часть нынешнего Невского проспекта) именовался Большой першпективной
дорогой и был главным въездом в город.
2. Парадиз — старинное название райского сада, перенесенное на новую русскую
столицу на Неве.
3. Безымянный ерик — первое название р. Фонтанки.
4. Плотницкий инструмент. Лезвие у него поставлено не вдоль топорища, а поперек,
как у кирки.
5. После Полтавы (1709) еще 12 лет шла Северная война со шведами за выход в
Балтийское море. Новая столица строилась в условиях морских и сухопутных
сражений. Ништадтский мир был заключен только в 1721 году.
6. Mon heer schout-bij-nacht (голл. Мой господин «в ночь смотрящий»). Шаутбенахт
— адмиральский военно-морской чин в Голландии. До XVII в. так называли офицера,
несущего ночную службу. В самом начале XVIII в. звание шаутбенахта было введено
в России и впоследствии включено в Табель о рангах, соответствовало званию
генерал-майора. Это звание носил Петр I. Он и ввел в обычай обращение к себе
по-голландски: «Мой господин шаутбенахт». После смерти Петра Великого звание
шаутбенахт было вытеснено званием контр-адмирал.
7. Обычные солдатские чулки были зеленого цвета, но преображенцы и семеновцы
носили красные — в память о героическом нарвском стоянии над трупами убитых по
колена в крови.
8. При крепостной гауптвахте в пору Петра была площадка для разного рода
экзекуций. Ее называли «плясовой».
9. Капрал — командир плутонга, четверти роты.
10. Пластинник — распиленное вдоль бревно со снятыми горбылями.
11. Беляна — речное сплавное судно, большая барка.
|
|
 |
|
 |
|
|