|
|
|
|
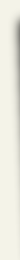 |

|
|
|
Высокий свет земного беспокойства
По паспорту я Перунов Сергей Александрович. Родился в 1976 году в городе
Шадринске Курганской области, однако, в детстве много времени проводил в
сельской местности, что очень четко отразилось в судьбе и в творчестве.
Учился в Шадринске в школе, потом на физмате педагогического института, но
спустя три года бросил его и ушел в армию.
Служил на Северном Кавказе в городе, который раньше назывался Святой крест, а
ныне Будённовск.
После армии снова учился, на этот раз уже на филфаке того же Шадринского
педагогического. В 2001 году перевелся на заочное отделение, женился и уехал в
Челябинскую область.
Работал учителем русского, литературы и физики в селе Селезян под Челябинском. А
в 2003 году привела судьба в милицию, оттуда прямиком в полицию. И вот уже 13
лет я — следователь. В 2011 году вернулся на пмж в родной Шадринск.
Город наш известен в литературе тем хотя бы, что училась здесь в техникуме
известная поэтесса Ксения Некрасова (ее называли «Хлебников в юбке»). Писатель
Василий Иванович Юровских тоже наш земляк. Витор Петрович Астафьев у нас бывал,
к Василию Ивановичу приезжал. А еще скульптор Шадр — автор «Булыжника — орудия
пролетариата» и «Девушки с веслом», художник Федор Бронников, народный академик
Терентий Семёнович Мальцев — все шадринцы. И список можно еще продолжать и
продолжать...
Осенью 2015 года в Шадринске проходила конференция писателей Урала, на которой
вручались премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, который также неоднократно бывал в
нашем городе, работал, упоминал его в своих произведениях.
А я сам пишу с начала девяностых годов минувшего века. Началом своего
литературного пути считаю апрель 1994 года, когда познакомился с ныне покойным
поэтом и сценаристом, выпускником ВГИКа Сергеем Чепесюком, войдя в руководимое
им литературное объединение.
С того времени был победителем нескольких городских и областных литературных
конкурсов. За прошедшие 20 лет публиковался в шадринских, челябинских и
курганских газетах, альманахах, коллективных сборниках, немного в московских
журналах «Знамя», «Наш современник», в альманахе Ассоциации писателей Урала
«Чаша круговая».
В 2015 году был победителем всероссийского литературного конкурса МВД РФ «Доброе
слово» в номинации «Поэзия». 3 марта 2016 года мне вручена полномочным
представителем президента И.Р. Холманских Литературная премия Уральского
федерального округа. В апреле 2016 года принят в Союз писателей России.
До сего дня издал три официальных книжки стихов: «Весна-река» (1999),
«Неопалимая рябина» (2012), «Берёзовое причастие» (2005), около дюжины
самиздатовских. Готовится к изданию очередная книга стихотворений и поэм.
Влияет ли моя работа на то, что я пишу и как? Конечно, влияет. Часто приходится
встречаться с людьми, находящимися, что называется, на грани, а то и за гранью.
Видеть то, что другие люди, гражданские, не видят. Но по тем же причинам и
хорошее становится гораздо ценнее... А вообще, следственная работа никогда не
была для меня основой жизни. Разве что в материальном плане. Я все же поэт
прежде всего и всегда был лишь поэтом. И это, как все чаще мне кажется, не
просто «высокие слова».
Не выше, не ниже, а сбоку припёка —
вот место поэта до смертного срока.
В кварталах сырых параллельного мира
по нем коммунальная плачет квартира...
(из черновиков ещё 2012 года)
С уважением,
Сергей Перунов
Берёзовое причастие
Не с белого листа писалась жизнь моя,
с берёзовой листвы в родимой роще,
что тыщу лет шумела до меня,
и столько же кукушка ей пророчит.
На древней бересте, как на роду,
судьба моя записана задолго.
Я участи счастливее не жду
взамен сыновней верности и долга.
На древе родовом я лишь листок,
в великой Книге Жизни — лишь страница.
Но мне не зря дарован был глоток
берёзового сока — причаститься.
Душа народа
Александру Михайловичу Виноградову
Слов кровное родство
давайте помнить будем:
щт корня одного
слова Любовь и Люди,
Начало и Конец,
и Крест и Воскресение,
Творенье и Творец,
и Времени Вращение.
Из устья да в уста,
из речи в речку снова, —
чиста, как береста,
славянских слов основа…
Но ранит нам сердца,
как та шальная пуля,
свист подлого словца
в эфирном смутном гуле.
И хочется пропасть,
оглохнуть, задохнуться,
но не попасть под власть
безвкусного искусства.
Срывается на крик,
ошпарен ядом едким
родной язык — Аз Зык —
мой голос — голос предков!
Нам нынче норовят
взамен богатств бесценных
дешёвый суррогат
подсунуть непременно.
Чтоб знать забыли мы,
кто есть мы и откуда,
чтоб души и умы
сковала нам остуда.
Душа Народа — речь.
Что может быть дороже?
Сумеем уберечь —
себя не изничтожим.
Земной поклон
Родиону и Марфе Долгих,
моим крутишинским предкам
Как живые предо мной,
на крылечке рядышком,
Родион — прапрадед мой,
Марфа — прапрабабушка.
Не живали для себя,
а себя прославили:
вы одиннадцать ребят
на ноги поставили.
Внуки, правнуки пошли,
веточка за веткою,
шлют со всех концов земли
весточки приветные.
Ну, а коли в перечёт
свояков да деверей, —
заколышется наш род,
как листва на дереве!
Так от корня одного,
заревого зёрнышка
сад ветвился родовой,
поднимался к солнышку.
Если всех собрать сейчас,
мир бы охнул — вишь, их сколь!
Не хватило бы для нас
площади Крутишинской!
Кабы не лихие дни,
войны, смуты разные,
втрое больше бы родни
собралось на празднике!
Справили бы пир горой
с пирогами, с песнями.
В пляс пошли бы круговой
сёла все окрестные!
Вам, прапрадед Родион,
Марфа прапрабабушка,
благодарный наш поклон
до земли, до травушки!
По грибы
Памяти деда Ивана Захаровича Тарабукина
От мошкары создав себе завесу —
попыхивая «примкой» с однова,
шёл дед заветной тропкой —
в гости к лесу,
и расступалась перед ним трава.
Распахивали ясные оконца
полянки,
бликовала береста,
к себе манили старого знакомца
грибные потаённые места.
Привет вам, сыроежки и маслята!
Как поживаешь, тёзка, Иван-чай?
Любая травка памятна и свята,
весь этот лес, весь милый отчий край!
Шёл дед и вспоминал о каждом шаге,
что в жизни довелось ему пройти —
от сопок уссурийских и до Праги.
Сколь это будет? Полземли почти!
Не раз в невозвратимые потери
зачислен был на страшной той войне.
Когда вернулся, сам с трудом поверил,
что на чужой не сгинул стороне.
Природа там богаче, да, но только —
не зря гласит народная молва:
дороже нет берёзового колка,
в какой ходил по грузди сызмальства.
…А я с корзинкой поспешал за дедом,
на бабочек глазел да на стрекоз,
и никакой заботушки не ведал,
и дедовых не видел светлых слёз.
Ползуниха
У нас зовут клубнику «ползунихой»:
её всего удобней брать ползком.
Ни клещ, ни овод, никакое лихо
не разуверят ягодника в том.
Какой азарт! Сперва на донце лягут,
едва его покроют… Но, гляди, —
уж полведра отборных крупных ягод,
а сколько справа, слева, впереди!
С утра в росе весь вымокнешь, а после
пропаришься как в бане на полке.
Как здорово в траве душистой ползать,
с букашками дружить накоротке!
И знать, и верить искренне и просто:
мы — ягодки все поля одного,
и мураши, и люди, и берёзки,
что — вон — глядят с пригорка своего.
…Потом идёшь домой с ведёрком полным
и доброй силы чувствуешь приток.
И долгою зимою есть что вспомнить
за чаем, да с вареньицем притом.
Печка
Голландка — печка круглая,
с особым шиком, дескать.
— Слышь, как полешки хрумкает,
аж за ушами трескат!
Дымок цигарки дедовой
струится в поддувало.
Сиди себе, беседовай
о том, что было-стало.
Играя, блики пламени
простенок лаком кроют
и озаряют в памяти
всё доброе, родное.
Тепло плывёт по горнице
волной истомы сладкой.
За мир в душе
покорнейше
благодарим голландку!
Письмо астафьева
«Под горой живая река с мерцалой синью…»
из письма В.П. Астафьева Е. Капустину.
дер. Сибла. 07.04.1975 г.
Река с мерцалой синью под горой,
манящее молчанием заречье…
Как вечен свет, далёкий и родной,
так вечно беспокойство человечье.
И человечье только ли?
Близки
в печали тайной — травы, люди, птицы.
От капли малой до большой реки, —
всё словно ждёт чего-то,
всё стремится
как будто вспомнить что-то, что давно
забылось…
Только отблеск звёзд высоких,
воды впитав, на илистое дно
неслышно опускается в протоке.
У истока судьбы
Памяти писателя Василия Ивановича Юровских
Оставляем родные гнездовья
без надежды вернуться назад.
Но они в нас фантомной любовью,
тихой болью, как прежде, горят.
От того и не ладятся судьбы,
бестолково проходят года,
и бурьяном в душе безрассудным
прорастает беда-лебеда.
И какого всё ждём мы ответа,
ищем счастья какого вдали,
за своей суетой несусветной
зов не слыша родимой земли?
А пустая изба сиротливо
в помутневшую воду глядит,
словно броситься хочет с обрыва,
да мешают ей ветви ракит.
Нет, нигде нам не будет покоя,
ветер в поле лови — не лови,
наше счастье вот здесь, над рекою,
у истока судьбы и любви.
По весне возвращаются птицы,
с доброй весточкой к дому летят.
Вот бы верности нам поучиться,
вместе с ними вернуться назад…
Неопалимая рябина
Я хотел бы прожить на земле этой долгую жизнь,
научить своих внуков любить, и работать, и верить,
что когда-нибудь в мире не будет ни злобы, ни лжи
и откроются к вечному счастью заветные двери.
Я б хотел пережить всех ровесников и написать
мемуары толковые, чтобы потомки узнали,
как мы жили и как добывали свою благодать —
из позорных времён да по зёрнышку светлой печали.
А ещё — чтоб душа, отлетая в осеннюю грусть,
пусть уже попрощавшись со всем дорогим и
любимым,
вдруг узрела на миг Золотую Великую Русь,
возрождённую в пламени неопалимой рябины.
Над рекой
Старый храм с провалившимся куполом,
побывавший на долгом веку
и колхозным амбаром, и клубом,
в обмелевшую смотрит реку.
Там у берега бродит по зарослям
заблудившийся пёстрый телок,
догнивает (никто не позарился)
плоскодонка, уткнувшись в песок.
Зарастают тропинки нехожие
безымянной травой-муравой.
Вновь безвременье, вновь бездорожье —
то былинным ветрам не впервой.
Осыпается ягода спелая.
Даль небес голуба и пуста.
И берёзка на храме Успения
зеленеет заместо креста.
«Платформа 184 км»
Вдоль насыпи медовый донник.
Увит вьюнками семафор.
И дольки солнышка в ладонях
ромашки носят с давних пор.
Здесь остановка лишь по требованию.
Бывает, в летние деньки
из электрички, словно с неба,
десантом скачут грибники.
В бору аукается сонном
протяжный гул — мечте вдогон.
А рельсы чутким камертоном
настраивают сосен звон.
Но вмиг звучание убавится,
когда, свой сокращая путь,
на камертон присядет бабочка,
минутку чтобы отдохнуть.
Первый снег
Впервые видя белый свет,
по голым веточкам кленовым
скользит весёлый первый снег,
своим сияньем зачарован.
Искрится в нимбах фонарей,
прохожих дрожью пронимает.
И удивлённый воробей
его за мошек принимает.
А снег летит, а снег спешит,
кружа, снижаются снежинки.
Желает снег от всей души,
чтоб всем досталось по смешинке.
Он не успеет: до земли
не долетит, в моём дыханье
растает первенец зимы —
и станет новыми стихами.
Ветерок
Всё тает и течёт, недели две ещё,
и снимем мы тяжёлые одежды.
Приветствуем тебя, весною веющий,
прохладный водянистый ветерок,
ты вербы распушил, вернул надежды
и растопил в берёзках сладкий сок!
Без устали ты носишься над праздничным
весенним миром, то спешишь на берег
речушки, то в саду у нас проказничать
торопишься, то в форточку влетишь,
то вдруг взовьёшься к самой стратосфере,
то вновь колышешь у реки камыш.
Как юный ангел, только оперившийся,
везде успеть ты хочешь, непоседа,
весь мир обнять, сейчас тебе открывшийся,
увидеть, и запомнить, и понять.
Ты даришь столько радости и света,
неся на крыльях Божью благодать!
Мужыкант
У большого магазина,
у высокого крыльца
с утреца сидит мужчина —
на трёхрядке «ум-ца-ца».
Рядом в баночке помятой
мелочь, несколько рублей.
На чекушечку, понятно,
собирает дуралей.
А у ног его синицы
шелуху в снегу клюют.
А от песен гармониста
в сердце — радости салют!
И прохожие бросают,
не скупясь, по медяку.
И давно уже хватает
на чекушку мужику.
Но играет, не уходит,
не для денег, для души.
И задорно так выводит,
хоть бросай всё да пляши!
По дороге в нижний яр
По какой нужде — не помню,
только солнышко взошло,
напрямки да через пойму
мы поехали в село,
что лежит неподалёку
и зовётся Нижний Яр.
Ту «короткую дорогу»
долго буду помнить я!
К водопою той дорогой
шли колхозные стада,
а скота водилось много
в достославные года!
Как телега наша только
не распалась на куски:
путь был гладким, как скатёрка
из-под стиральной доски.
И в прямом и в переносном
смысле был я потрясён…
разнотравья духом росным,
дикой радостью во всём!
До сих пор: глаза закрою —
луг цветущий предо мною!
А на холке синяки —
это, право, пустяки.
Одинокая песня
В сухопаром осиннике возле болотца
с полведёрка опят в редкий год наберётся.
Но зато там такая стоит тишина,
что Земли одинокая песня слышна.
Ветер в такт ей легко камышами шуршит,
и осинки тропу осыпают листами.
И, как эхо в осенней глубокой глуши,
из души осенённой стихи льются сами…
Я вернусь лишь под вечер, мокрёхонек весь.
Дома вновь заворчат, с неподдельным испугом:
«Выпей чаю с малиной да на печь-ту лезь,
не иначе, водил тебя леший по кругу».
Хорошо растянуться на русской печи:
от болезни любой нет лекарства полезней!
Только сердце всё так же тревожно стучит,
всё мне слышится та одинокая песня.
Провода
«Над полем низко провисая,
Лениво стонут провода…»
А. Твардовский. «Рожь, рожь…». 1939 г.
Вороньё по ближним колкам
разлетелось — кто куда.
На ветру сыром и колком
стонут в поле провода.
Их ещё не сняли воры,
но уже электроток
отключён к сельцу, в котором
три избы, старух пяток.
Перестройка, крах державы,
рынок (в скобочках — разбой)…
Был колхоз, когда-то славный,
развалился сам собой.
Все разъехались — кто в город,
кто на кладбище, и вот —
пять старух тоску и горе
делят уж не первый год.
Трудно им, конечно, трудно,
хуже, чем в года войны.
Как на острове безлюдном
посреди большой страны.
Родина, Россия, где ж ты?
Не осталось и следа.
Как последняя надежда —
в поле снежном провода.
Над исетью
Табунами тучи над Исетью
гонит ветер, щёлкая кнутом.
Было так назад тысячелетья,
будет так, когда и мы уйдём.
Как же наши мелочны обиды,
суетны и бестолковы дни.
За дровами леса мы не видим
и живём, как будто бы одни.
Опрометью только и приметим,
как, ремённым щёлкая кнутом,
табунами тучи над Исетью
гонит ветер вдаль за окоём…
Солнышка за мороком тяжёлым
не видать, не слышен птичий звон.
Говорят же старики по сёлам:
— Дождь с полдён — так, верно, на семь дён.
Забытый летний вечер
Закат жарптицевого цвета
над тихой улочкой села.
С ним догорело наше лето,
и наша юность отцвела.
Я, как бесценную святыню,
держал в руке Её ладонь.
Казалось, вечно не остынет
в душе зажёгшийся огонь.
Мы попрощались на дороге.
И надо мной, кривя оскал,
смеялся месяц тонкорогий:
— Что ж, даже не поцеловал?!
А я был рад: какие годы,
ещё сполна своё возьму!
Не зря звезда за огороды
скатилась, рассекая тьму.
Давно уж отхолостовали,
и звёзд — как яблок в Светлый Спас.
А вечера того едва ли
счастливей вспомнится сейчас.
Азимут судьбы
К осени трава от солнца выгорит,
как мальчишек русые чубы.
И дожди просыплются на пригород,
в ближних колках вновь пойдут грибы.
В огородах на кострищах жертвенных
задымит увядшая ботва.
В путь пора, однажды предначертанный,
птицам перелётным отбывать.
Ну а нам — запасы делать на зиму,
складывать за пазухой избы,
по приметам прадедовым азимут
проверяя собственной судьбы.
Приисетье
Обнищало нынче Приисетье,
многих деревень недостаёт,
не одну войну и лихолетье
перешедших, словно речку вброд.
Это что ж за времечко такое?
Вроде нет ни сечи, ни чумы,
отчего ж, как прежде, над рекою
труб печных не тянутся дымы?
Петухи на зорьке не горланят,
ботала коровьи не бренчат,
на вечорках, как бывало ране,
не звенит задорный смех девчат.
Не медовым духом разнотравья,
гарью от лесов заволокло
край родной, как будто стало явью
в старых книгах проклятое зло.
Для того ль шли прадеды седые
за Урал с Онеги, с Холмогор,
чтобы мы все добрые труды их
привели в забвенье и разор?
Для того ли не одно столетье
проливали кровь свою и пот?
Нешто басурманам Приисетье
по кабальной грамоте пойдёт?
|
|
 |
|
 |
|