|
|
|
|
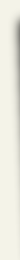 |

|
|
|
Бездомные мысли художника без крыши
Владимир Глухов родом из Таджикистана. Где только ни побывал: учился в
Государственном художественном академическом институте имени В. И. Сурикова в
Москве, жил и работал в Тюмени, перебрался во Владимир в надежде найти
подходящую для себя обитель, но снова очутился в Тюмени. Живописец, график.
Участник многих выставок. Одна из его работ навсегда поселилась в Третьяковской
галерее.
Есть у него рассказы и даже роман, над которым он работает уже несколько лет.
В «Проталине» это уже вторая его публикация.
Cлава моей улице оргтруда!
После трудов ночных, тяжких к утру обнаружил я, что сигареты кончились. Обтерев
ветошью руки, я взглянул на часы — было шесть тридцать, а магазины в поселке
открываются в девять. Решил еще поспать, а потом уж сходить в магазин. Но,
конечно, проспал до одиннадцати.
Идя к калитке, был я, наверное, задумчив, оттого, видно, пошел я не налево, как
всегда, а прямо, куда обычно не ходил. Потому что эта прямая дорожка вела в
гору. Дом, в котором живу, стоит на третьей террасе реки Клязьмы, а опомнился я
на навершии четвертой. Я, конечно, оглянулся и… замер. Аж дух захватило! На метр
ниже меня пламенели белым огнем кусты сирени. Кисти цветов, особенно слепящие на
солнце, тысячами своих лепестков, как крошечными пальцами, трогали все
окружающее: и небо с быстро бегущими облаками, и светло-зеленый заливной луг
перед самой Клязьмой, и синий холм на той стороне реки, и дома, деревья и кусты,
и тянулись к моим глазам, обалдевшим от такой красоты! По всему этому благолепию
быстро неслись волны теней от облаков. По правую руку, в просвете между домами с
маленькими мезонинчиками на крышах, сиял Боголюбовский монастырь. Никогда еще не
казался он таким близким! Монастырь то вспыхивал неземным светом, то погружался
в светлую тень.
Очнувшись, я постоял еще маленько, полюбовался и с безотчетной радостью
отправился дальше по нехоженой мной раньше дорожке.
А дальше был колодец. Оказывается, он был рядом, метров за сто от дома, а я… не
знал! Когда не было воды в кране, приходилось идти к другому колодцу — на
соседнюю улицу, куда дальше. Мне, искони городскому, это было сильно лениво. А
тут — нате вам! Рядышком-то водица колодезная! Конечно же, я опустил ведро.
Попил я всласть, а остальное вылил на голову. Восторг неизреченный.
Улица была очень зеленая и уютная. Раньше я ходил в центр поселка, где были
остановка автобуса, магазины, рюмочная-пивная с особо культурным названием
«Библиотека», другой дорогой. Она шла повдоль холма четвертой террасы, мимо
вечно визжащей лесопилки и гаражей. Я окунался в запахи бензина и опилок и сразу
попадал в серое окружение панельных «хрущевок». Не нравился мне этот путь! Но
что делать? Другого пути, как мне казалось, не было. Так вот нет же! Вот он,
другой путь, красивый, милый, приятный! Он полон запахами сирени, травы, воды
озерной.
За поворотом показался пруд. Вот откуда запах-то озерный! Скорее всего, водоем
этот, выкопанный прямо посреди улицы, придуман был на случаи пожара. Он был
достаточно большим, чтобы любоваться в нем отражением красоты Божьей, но
маленьким для того, чтобы плавать. На бережку его паслись две коровы и четыре
теленка. Быстрыми шагами одна из телок приблизилась ко мне и, протянув морду,
стала смотреть мне в глаза, шевеля ноздрями, принюхиваясь. Глаза ее, огромные
черные маслины, окруженные потрясающе большими ресницами, явственно отражали
дома, сирень и чистое небо. Я развел руками — мол, нечем мне тебя угостить! — и
посмотрел вверх. Небо стало абсолютно чистым. Вот какой ветрище был там,
наверху, что за немногие минуты успел пронести облака далеко на восток, к
Владимиру. Я очень порадовался: как вовремя я вышел из дома! И не пропустил волн
света и теней, несущихся по долине Клязьмы.
Телка все еще стояла, протянув голову ко мне, и шевелила ноздрями. И вдруг я
увидел то, от чего по спине побежали мурашки. Телка шевелила… пальцами! Никогда
в жизни я не видел, что коровье копыто спереди разделяется на два пальца, и вот
ими-то она и шевелила. Меня качнуло вниз. Разглядеть этакое чудо я не успел.
Телка, мотнув головой, испуганно отбежала. Что-то странное творилось со мной в
это утро. Сколько себя помню, я видел — у коров и у лошадей копыта были
монолитные.
В отдалении, на лужайке, стоял коренастый мужик, явно хозяин, и, поигрывая
кнутом за спиной, неодобрительно и цепко смотрел на меня.
Ладно! Разберемся потом! — махнул я рукой и пошел дальше.
Я увидел продуктовый магазин.
«Надо же! — с досадой думал я. — Целый год ходить по нелюбимой дороге, почти
каждый день. Наполнять и так измученную душу противным мне видом, когда тут,
рядом есть путь, наполненный красотой и чудесами. Ходить той дорогой только
потому, что ты так привык, потому, что не хватает любопытства, а лени с
избытком! Потому, наконец, что грехов в тебе много, а веры мало!»
Магазин был пуст. Только за прилавком стояла одинокая фигура. Первый раз в жизни
я видел, чтобы поселковая продавщица обрадовалась покупателю. Я спросил марку
своих сигарет. Этой марки не оказалось. Продавщица стала торопливо предлагать
мне всяческие другие, но я не хотел. Совсем расстроилась продавщица! Мне стало
дико неудобно, и я стал разглядывать витрины, чтобы купить что-нибудь не очень
ненужное, дабы загладить «вину». С радостью я обнаружил фруктовую карамель за
шестьдесят рублей килограмм. Шестьдесят, когда везде самая дешевая давно по
девяносто! Я взял аж два кило! Обрадованная хозяйка хлопотала у весов. А я
радостно думал: чудеса продолжаются! Что будет дальше?
Выйдя на улицу, я увидел вершины сосен, и, как мне показалось, знакомые вершины.
Поправив потяжелевший рюкзак, любопытствуя, я пошел налево. К знакомым соснам. И
действительно, чуть спустившись с холма, я увидел небольшой сосновый бор перед
поселковой поликлиникой. За год, прожитый в поселке, мне уже несколько раз
приходилось бывать здесь, но я всегда приходил сюда с другой стороны.
«Все! — как ни странно, весело подумал я. — Чудеса на сегодня кончились! И
будет! Хорошего — понемногу! Надо для равновесия и плохого. Сигарет надо, вот
что!»
Это были знакомые места. Я деловито зашел в один магазин — моих сигарет не было.
Во второй — нет! Оставался еще один — «Петух».
Дом назывался «Петухом» из-за пестрой кладки красного кирпича с желтым.
Мне очень нравилось, что посельчане дали всем пятиэтажкам собственные имена.
Есть в поселке и «Дом дураков», названный так потому, что в нем жили в основном
торговцы самогоном, и «Горбатый» дом, спускавшийся с пригорка уступами, и
«Вонючий», прозванный так вовсе не за то, что подъезды в нем были особенно
вонючи, а потому, что стоял он на берегу речки Вонючки, этакого природного
коллектора.
Имена, всегда меткие, точные, давали бетону и кирпичу какое-то живое тепло,
которого порой так не хватало людям, привыкшим жить на этой невеселой поселковой
земле. Люди эти происхождения были крестьянского. Покинули они свои деревни
относительно недавно и не забыли запах родной щедро родящей земли.
В «Петухе» мои сигареты, наконец, нашлись. Я сел на трубу оградки в тенёчке и с
наслаждением закурил. Я сидел и удивлялся, что впервые за много месяцев с самого
утра все делаю с удовольствием. С удовольствием и удивлением. И хотя отсюда мне
было ближе идти домой старой дорогой, я решил идти обратно новым путем, уже не
спеша, жадно желая продолжения. Но Господь уберег меня!
Когда я проходил мимо сто раз виденного гаража, стоящего как раз на развилке
путей, мой радостно обостренный взгляд поймал яркое пятно над его воротами. Это
был флюгер. Флюгер в виде российского флага с макетом вертолета над ним. Лопасти
винтов вертолета быстро крутились на ветерке, а жестяной флаг, который и был,
собственно, флюгером, подчиняясь ветерку, крутил машину на оси. Вертолет важно
показывал то один свой красный бок, то другой. На боках почему-то было написано
«Аэрофлот СССР», хотя флаг под ним был российским. Видно, хозяин,
верноподданнически перекрасив флаг, вертолет перекрашивать не стал. То ли рука
не поднялась, то ли не придал этому значения. А может, и краски пожалел.
Так вот. Я несколько минут, разинув рот, стоял и смотрел на важное покачивание
вертолетика и быстрое мельтешение его лопастей. Весь вид флюгера странным
образом сочетался с «Петухом». Перед глазами мелькал, и пестрел, и лился в душу
неожиданный мир, как строчки еще не угаданных стихов.
Дальше я подумал, что раз я заметил вертолетик там, где постоянно ходил, то что
же я увижу еще, если пойду старым путем? Осознав эту мысль, я решительно
повернул направо. На старый путь. Меня переполняло неведомое доселе счастливое
чувство близости ко всей этой красоте. Я понял, что это чувство уже меня не
покинет.
Я шел пружинистой походкой, с любовью вглядываясь в лица встречных. Все они
казались мне близкими, милыми и симпатичными.
Весьма!
Давно выпито!
Аж в 1993 году галерея «Марс» объявила конкурс на лучшую картину. Картину любого
сюжета, но с условием, чтобы в ней присутствовала бутылка новой водки
«Нью-Йорк». Американской!
Народ стал звонить в «Марс» и спрашивать: какая этикетка? какая бутылка?
Я не стал звонить и не поехал смотреть образец этой стеклотары. Я сделал эту
картинку с бутылкой, как у нашего душанбинского портвейна «Памир». Мы его
шмурдяком называли. Получилось оригинально. И дали мне третью премию, то есть
пять ящиков этой самой водки. В каждом ящике — двенадцать литровых батлов. Один
ящик мы с друганами выпили не пьянства ради, а здоровья для. Остальное раскидали
по киоскам. Тогда в Москве водку принимали и продавали во всех киосках. На
закусь хватило и на другие безобразия.
«Арестом» еще с Душанбе у нас называли акт увода из компании. Стало быть, одного
из нас — женой. Это меня обычно уводят.
Потом я спрашивал, кто первую и вторую премию ухватил? То есть десять и
пятнадцать ящиков. Мне пояснили: тот-то и та-то. А в комиссии по присуждению кто
был? Тот-то и та-то. Те же, стал быть. Так-то!
Я был и остался пропагандистом водки, даже вот новой — «Нью Йорк». Засланный
казачок. Резидент, стал быть… И статую свободы я угадал. И цвет. Умен, собака,
был! Только бутыль был прозрачным.
Жаль, фотки тех времен плохие. А многих уже просто нет, утеряны. А куча картинок
вообще ушла. Затерялись те картинки на просторах земли нашей матушки! Интересно,
что одну я продал немцу или кому-то похожему на немца, а всплыла она в Японии.
Друзья видели, если не врут.
Да! Я не дорассказал, чем кончилась история про мою водку «Нью-Йорк». Денег от
продажи четырех ящиков было много, а билеты на самолет тогда были еще доступны.
Не всем, правда, и не всегда... Короче, очнулся я, представьте, на пляже
Таджикского моря (есть такое, правда!) в компании с другом. Единственным,
оставшимся в живых в этой битве с алкоголем. С последней бутылкой «Нью-Йорка» в
рюкзаке. Мы ее под шашлычок благополучно угомонили, а в бутылку положили записку
— послание алкоголикам XXI века. И пустили ее в безбрежные просторы Таджикского
моря. По воле волн. Не думали мы тогда, что доживем до XXI века. Так, на всякий
случай к потомкам обратились. А оказалось, дожили и даже перешагнули.
Вот так вот.
Верни шедевру!
Часто в башке нет ничего. Ничего хорошего. Имею в виду, когда берешь холст и
начинаешь мазать чё ни попадя. Чё выйдет. Чё выйдет, то и хорошо.
Эта картинка из подобных. Накрасил ее. Ладноть...
Вдруг звонок. Звонок оказался хреновый. «Кинули» меня на хорошую сумму. Да,
главное, кинули те, которым полностью доверял.
А надо сказать, что в то время мастерская моя располагалось в здании
«Общественного движения «Западная Сибирь». Было такое. Распалось движение
благополучно, лидеры его, само собой, разъехались по столицам, по думам там
всяким государственным, а мы, сирые да убогие, остались на улице. Но не в том
суть. Все же три года я там имел приличную БЕСПЛАТНУЮ мастерскую, да еще
зарплату получал за талант да за пьянство. Редкое везение!
Кстати, в том помещении, где была моя мастерская, теперь личные покои нынешнего
губернатора области. Спят они там после трудов тяжких, праведных. Я когда мимо
хожу, всегда грожу кулаком в окно моей мастерской. Потихоньку, конечно. Когда уж
совсем стемнеет. Вот. А рядом с этим домиком, когда еще мастерская моя там была,
было место «стрелки». То есть местные бандюки собирались там на обрыве реки о
делах своих скорбных покалякать.
Ну так вот, я после поганого того утреннего звонка выпил остатки вчерашней водки
и, схватив только что написанную картинку, выбежал на крыльцо и заорал:
«Граждане бандиты! Кто из вас купит за три бутылки водки картину с обнаженной
натурой, с бабой то есть?» Граждане от такой наглости, конечно, слегка опупели и
мирно потянулись к кобурам. Но один оказался добродушным и махнул мне рукой. Я
робко засеменил к его блистательному семисотому.
— Баба, говоришь? Где? — стал он разглядывать холстик.
— Да вот же, вот! — уже робко стал я тыкать трудовым своим пальчиком.
— Да? Хм! Смотри-ка! Точно! Три батла, говоришь? — он дал знак водиле, и тот
открыл огромный, как шифоньер моей бабушки, багажник. Там было все! Все, что
может присниться в сладком сне похмельного развратника. Бандит взял три литровки
«Бенатовской», окинул взглядом мое изможденное тело и прибавил еще две. Я гордо
отказался — сказал, мол, три, так уж три! Он уважительно скривил шею и махнул
мне опять благосклонно ручкой. Иди, мол, милый, иди. Я и пошел.
Сильно протрезвев, я стал давать объявление в газету «Из рук в руки»: «Верни
шедевру (за деньги!)». И указал, куда.
Нет, не откликнулся. Через несколько лет я написал по мотиву нижней части этой
картинки «Зульфию и колхозника». Только баба к тому времени сильно посинела.
Позже летел я раненный в голову самолетом в Москву на презентацию моей книжки. И
что думаете? Соседом оказался тот самый бандит. Он меня тоже узнал, несмотря на
перевязанную голову. Поил меня всю дорогу отличным коньяком, говорил, что ему
докладывали о моих объявлениях, но он неизменно отвечал: хрен! Пусть висит там,
где висит! По прибытии в Москву он меня довез опять же на своем черном семисотом
до места и обещал заказать портрет с женой и детьми. Но только обещал.
Вот такая история была.
В храм — только пешком
Пошел на службу в субботу часов в девять вечера. Идти мне до храма, если по
дороге, километров десять. Если лугами, напрямую, много меньше, километра
три-четыре. Но луга залиты водой талой. Весна!
Вот.
Иду.
Сначала было довольно светло, а потом — небо звездное, безлунное. Темно. Дорогу
только в луче фонарика и видно. Хорошо!
Пришел в храм к одиннадцати часам. Свечи поставил, молиться стал. Молюсь,
молюсь, да увлекся! Чувство времени потерял. Потом очнулся, поглядел на часы, а
уже полпервого! Как же это я все пропустил? И славопение, и крестный ход.
Соседа тихо спрашиваю: «А что, здесь, в монастыре, свой устав?» Он понял, о чем
я. И тоже тихо мне: «Они не переходят на летнее время».
А! О!
Петь начали в час. На крестный ход вышли в полвторого, а поздравлять с крыльца
священник стал в два часа. Простоял еще на литургии до четырех, и домой пошел.
Пришел к шести. Ноги гудят!
А хорошо! Радостно!
Залез в холодильник и — давно мечтал! — нарезал сала домашнего. Специально
засолил, к празднику. С чаем да с конфетами — красотища!
Лампадка горит. Иконы светятся на новой божнице, это я Господу новоселье
устроил, переместил иконы со шкафа в левом углу в правый угол, полочку
специальную смастерил.
А я чай с салом пью. Как калмык.
В общем, это я к чему? Ходить в храм пешком за десять километров на службу
праздничную прекрасно! Это тебе не на автобусе, пару остановок городских! Есть
время поразмышлять, подумать.
Совсем другим приходишь в храм и домой из храма.
Теплые ритмы памяти
Сколь много забавного в вещах обыденных… Именно забавного, не смешного, этого
также достаточно, а вот забавного… Не обязательно даже вызывающего улыбку на
лице.
Вот дом. Живу в нем второй день. В нем две комнаты. Уже хорошо.
Внизу под комнатами кухня, туалет и кладовки. В полу дырка. В просвет видна
лестница, ведущая вниз. Когда спускаешься или поднимаешься по этой лестнице,
возникает непривычный ракурс то в подвал, то на комнату и на вещи, стоящие в
ней.
Например, виден стол. Он раздолбан. Одна ножка совсем отвалилась. Углом он
опирается на батарею. А ножку, которая отвалилась, я подсунул под другую, потому
как пол неровный. Очень странно и забавно видеть трехногое существо, опирающееся
на собственную оторванную ногу.
Дальше, в туалете-ванной, на полке, город из пластмассовых баночек с гелем,
шампунем и т. п. И два небоскреба — пачки стирального порошка. На них крупно:
«МИФ». Получается — «МИФ», «МИФ». Забавно.
В шкафу на кухне два прозрачных пакета — в одном белые крупинки сахара, в другом
белые яйца. Крупинки весело искрятся, яйца угрюмо безмолвствуют.
На столе, за которым я пишу, стоит комп, на нем — мои руки. Хищная желтая
зажигалка с черной головкой. Тарелка с жертвами зажигалки — несчастными вонючими
бычками. Лощеный, пузатый, полный воды, теперь уже антикварный графин
шестидесятых годов. Новенькие колонки. Отвернулись друг от друга. Рядом
топорщится черная массажная щетка. Цветные круглые диски молча сидят по
коробочкам.
В комнате, в которой я сплю, стоит диван. Когда я на нем сижу и смотрю в окошко
на улицу (а сейчас ночь), виден кусочек палисадника. Прямоугольник окна по
диагонали пересекают голые ветви сирени. За ними — темно-острый ряд штакетника.
Дальше — мешанина из заборов, веток, столбов и домов на той стороне улицы. Над
всем этим — черно-синее небо. Посреди холодного плато улицы теплый треугольник
света. Он слегка качается. Ветки неподвижны. Фонаря не видно. Волшебство!
Забавно настолько, что захотелось все это записать.
Вот еще немного о штакетнике.
Пока штакетник чистый, свежий, новый, он неинтересен, обычен. Но выбейте одну
штакетину, через промежуток выломайте еще пару. Передумав, поставьте одну
штакетину обратно. Встала криво. И вот уже ритм жизни. Интересно. Мы неосознанно
узнаем в штакетнике себя. Сочувствуем ему. А в картине очень важно сочувствие!
Сочувствие художника, затем зрителя. Так штакетник оживает и просится в полотно.
***
Ах, отец, отец… Как сейчас вижу его сидящим в наушниках за приемником. Тонкая
старческая рука медленно крутит ручку настройки. Приемник старый, может, еще
довоенный. Он, как всегда, разобран на две части. Одна стеклянно-металлическая,
стойко напоминающая колючего морского ежа, вторая, деревянная — вертикально
стоящий параллелепипед, сделанный, казалось, из цельного куска дерева — столько
в нем было надежности. Отец слегка пьян. Слушает, чему-то улыбается, щурится,
задрав тонкие брови. Поджимает губы, громко крякает. Я почти зримо чувствую, как
вокруг него, через него тянутся цветные каналы эфирной связи. Как по ним шумно
мчатся яркие эшелоны музыки.
Джаз. Его отец очень уважает и слушает солидно, немногожестно — закрыв глаза,
поджав губы, изредка кивая головой.
Рок. Тогда отец начинает двигаться всем телом, похлопывая ладонями по столу. Его
тонкая пергаментная рука медленно крутит ручку настройки, послушный приемник
изящно притормаживает мчащиеся со скоростью света звуки, и они плывут ночным
праздником, уходят дальше к ночным краям Вселенной.
Я лежу, собрав в замок на затылке руки, смотрю на отца и мечтаю, как я иду по
Москве или там по Парижу, Нью-Йорку, глазею по сторонам, улыбаюсь людям. Мне
шесть или семь лет…
Земляничное мыло
Памяти Игоря Рубеновича Пичикяна, друга и учителя моего, посвящаю...
1
Поздним зимним утром мы с Андреем сидели за столом и пили чай на двадцатом этаже
в одной московской комнате. Металлический чайник остро отражал холодный, мутный
свет, льющийся из окна. Там, далеко внизу, маячили серые кубики Москвы.
Андрей сидел напротив меня в полумраке кухни, и на его бороде лежал отсвет белой
скатерти. Он помешивал серебристой ложечкой темный чай, и пар поднимался к его
желтым от табака пальцам. Он спросил:
— Что есть устойчивого в этом мире?
Я не отвечал.
Мы сидели в полумраке кухни и пили чай. Время то уходило, то останавливалось. Я
очнулся от раздумья. Андрей сидел напротив меня. Он держал желтыми от табака
пальцами серебристую ложечку и помешивал уже остывший чай.
2
Летом, посреди июля, на железнодорожной станции Шанбе я сидел на бетонном
бордюрчике круглой клумбы, на самом солнцепеке. Сквозь тонкие подошвы тапочек
асфальт жег мою кожу. До одурения сильно пахли розы на клумбе, и от этого воздух
был душным. Оглянувшись, я увидел желтые комья перекопанной земли, которые ближе
к кустам роз становились коричневыми от воды, лениво сикающей из фонтанчика.
Вода падала на нижние ветки кустов и сияла на солнце. Темно-зеленые листья
пестрели белесыми следами ожогов.
Скоро совсем сгорят, подумал я и, поднявшись с бордюрчика, отправился к киоску
«Союзпечати». Шаги мягко впечатывались в асфальт.
Я заглянул в черноту киоска, и меня обдало смесью прохлады и типографской
краски. В глубине я увидел женщину. За ее спиной на деревянных полках стояли
несвежие номера «Коммуниста», «Науки и жизни» и «Звезды Востока». Наверху, в
правом углу, лежали бледно-голубые «Вопросы философии». Я разглядел
прикнопленный к стене красивый календарь за девяносто первый год, плакат с
Шварценеггером и несколько расцвеченных анилином фоток. На них красовались Радж
Капур с Зитой и Гитой. Справа, за стеклом витрины, я увидел розовые кубики мыла.
Я достал из кармана двадцать копеек и протянул хозяйке. Женская рука с тремя
золотыми перстнями проткнула мое отражение в стекле витрины, ухватила розовый
кубик и, вручив его мне, вновь исчезла в черноте киоска.
Я шел назад к клумбе по дымящемуся от зноя асфальту. Я чувствовал, как он жжет
мою кожу сквозь тонкие подошвы тапочек. Усевшись на бетонный бордюрчик, я нюхал
и разглядывал розовый кубик мыла. На одной стороне его было оттиснуто —
«ЗЕМЛЯНИЧНОЕ»,
а на другой —
«СРЕДАЗХИМТРЕСТ
Цена 20 копеек».
И пахло оно, как и должно пахнуть дешевое мыло.
— Ха-а, жарко, братан?
Я посмотрел направо. Молодой парень в белой рубашке с короткими рукавами, в
черных брюках и сандалетах на босую ногу пристроился рядом со мной.
— Люблю, когда жарко! — проговорил он и, прищурившись, поднял лицо к солнцу. — А
ты любишь?
Я незаинтересованно кивнул. Неясные образы, навеянные запахом земляничного мыла,
наполняли меня. Парень скосил глаза и, уловив мою отрешенность, слегка
обидевшись, сказал:
— Хай, ладно, пойдешь в Россию, там тебе будет кайф!
Оттолкнувшись от клумбы рукой, он резко поднялся и пошел, покачиваясь. Асфальт
мягко поддавался его шагам.
Я очнулся. Был уже вечер. Резко сигналя, по перрону медленно ехала поливалка,
вздымая перед собой струи пыли и воды и распугивая людей. С мылом в руках я всё
сидел у розовой клумбы. Я вскочил и спрятался за киоск. Когда поливалка
проехала, вернулся. Везде было мокро. Я снова отправился к киоску. В нем горел
свет, и вместо давешней женщины там сидел старик с лысиной в венчике седых
волос. Он смотрел на меня сквозь очки с очень толстыми линзами, отчего глаза
казались огромными и белесыми, как у подводного чудища. Я купил газету и,
подстелив ее, уселся на родной бордюрчик. Коктейль из запаха прибитой водой
пыли, нефтяной дряни, которой пропитывают шпалы, и земляничного мыла шибанул мне
в нос. Стрелка зашкалила.
— Хватит! — вслух сказал я и спрятал мыло в сумку. В сумке поверх шмоток лежали
два больших зеленых яблока «Семеренко». Достав яблоки из сумки, я приложил их к
глазам и поднял голову к небу.
Вскоре на первый путь подали московский поезд. Я встал и не спеша пошел искать
свой вагон.
Асфальт под ногами был тверд, мокр и чист.
3
Поздним вечером мы с Андреем сидели на кухне и пили. Электрический свет уютно
ласкал белую скатерть. На столе, мягко бликуя, стояла пустая бутылка, под столом
— еще две.
Андрей сидел напротив меня. На его лике лежала печать крутой пьянки. Он провел
желтыми от табака пальцами по бороде и спросил:
— Что есть устойчивого в этом мире?
Я молчал.
Андрей пальцами сжимал погасшую сигарету. Я видел на его бороде отсвет
вчерашнего дня. Я выпил последнюю стопку и отключился.
Пол был прохладным и твердым.
4
Несмотря на очень раннее время, Москва встретила многолюдьем и воробьиным ором
под крышей Казанского вокзала. Я вошел в метро. Слава Богу, вещей почти не было:
все домашнее барахло ехало за мной тихим ходом, товарняком, в контейнере. Была
только черная сумка, висевшая на плече, в которой лежали бельишко, пара книг,
нож и умывальные принадлежности.
Всю дорогу я мылся земляничным мылом, и махровое полотенце насквозь им пропахло.
Всю дорогу в душной тесноте купе я смачивал полотенце водой и, забравшись на
верхнюю полку, закрывал им лицо. Я вдыхал дешевый земляничный аромат и уходил
памятью в путешествие.
…Я бродил по зеленым холмам вокруг Шанбе, опускал руки в речку Шамбинку,
разрезавшую город пополам, сидел на ее гладких камнях и слушал далекий лай
собак, визг троллейбусов, шелест шин, рокот моторов, блеяние проходящей мимо
отары баранов, крики матерей, зовущих детей обедать. Все это сливалось с мерным
звуком реки в однообразный шум города. Я сидел на гладких теплых камнях и
смотрел, как к вечеру плотный сизый дым от мангалов сползает со склонов реки и,
низко стелясь, потихоньку заполняет ее долину. Я вдыхал этот дым-аромат
многочисленных дружеских пиров. Я чувствовал горький вкус и резиновый запах
плохо очищенной шамбинской водки, слышал тонкий хруст корочки горячей лепешки,
грыз сладкий белоснежный корейский лук. Язык мой горел от чуйского красного
перца, нёбо орошал сок тонко нарезанных помидоров. Я видел ночное черное
шамбинское небо сквозь золото виноградника. Я вновь лежал на курпаче, участвуя в
бесполезных, шумных спорах об истории таджиков и узбеков.
Я вдыхал шашлычный дым. Я пропитывал им свой хлеб, и никто не требовал с меня за
это платы. Я сидел на камнях и, сложив ладони, тихо звенел мелочью.
5
Мутным хмурым утром я проснулся на полу кухни. Рядом со мной лежали три пустые
бутылки. Андрей спал на стуле, широко открыв рот, неудобно откинув голову на
жесткую спинку и далеко вытянув худые ноги. Лицо его зеленело тяжелым похмельем.
На запятнанной скатерти жил тихий бардак. С глупой надеждой я открыл пустой
холодильник и тут же его закрыл.
Я провел рукой по щеке и вытащил из сумки кисточку, бритву и земляничное мыло.
Теперь это был жалкий обмылок.
В ванной комнате я нанес густую пену на до неузнаваемости опухшее лицо. Я поднял
глаза и спросил у отражения в зеркале: «Что есть устойчивого в этом мире?»
Отражение молчало.
Я держал бритву в руке, наблюдая, как от губ падает густая земляничная пена и,
тихо потрескивая, ложится на гладкую белую поверхность раковины. Неловким
движением я выпустил мыло из руки, и оно исчезло в глубинах подземной Москвы. А
с ним исчез последний намек на обустроенность жизни.
|
|
 |
|
 |
|