|
|
|
|
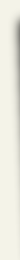 |

|
|
|
Коняк
…А я ведь чё писал-то, Михайло! Старуху-то у меня в больницу положили. Анализы
тут проходила, дак нехороши каки-то признали. Подозрение на кровь како-то, то ли
не хватает этой крови у иё, то ли шибко много. Лешак их знает, этих врачей, они
стоко же понимают! Как выглядела, говоришь? Да как, она и смолоду-то краснорожа
была, на покосе копну на вилы заваливала, дак как выглядела, спрашиваешь, так и
выглядела. Польза-то больша от иё была. Толклась до последу, все толклась! Я
потом один в огородишке-то остался, дак помыкался, а потом и рукой махнул.
Путно-то ничё и не растет, а трава прет, етти ее мать, как на дрожжах.
…О! Слушай! Чё хочу сказать-то. История тут така со мной вышла. Старуху-то как
положили, а я один-то остался, мерзну, мать твою, мерзну, ноги стынут, с иё хоть
толку-то и никакова, а туша-то все-таки больша, привалишься — теплом тянет. А
ночи-то ишь каки холодны, рамы-то одинарны у меня. Дай-ко, думаю, други вставлю.
Ну, вставил. Пакля там на веранде у меня лежала, шшели-то утыкать надо. Пошел за
ей, тряпье там всяко разно на ей набросано, вытаскивать-то стал, смотрю… Банка!
Трехлитрова банка! Достал! Крышка на ей политиленова. Ну, чё делать, открыл,
нюхнул… Ты не поверишь, Михайло, брага! Ну чё, я тут же и пригубил! Ты
понимаешь, забыл, зачем и пришел!
Но, ей богу, коняк, чистейший коняк! Да ядреный такой! Но чисто коняк, чисто
коняк!
Дак пойдем в избу-то, ково тут в огороде расселись. Худо-бедно живем, а уж
закуску-то найдем, поди, каку. А это-то пойло почем, говоришь, счас в
городе-то?.. Во-во! Как раз моя пензия! Токо на пуговки от ширинки, а зад уж и
залатать нечем. Кабы не огородишко, дак давно бы крякнул. Да чё там, Миша,
говорить, худо живу, худо. Вон в яшшик-то посмотришь — а кому-то ведь ишшо хуже.
Дак я его токо затем и включаю — где, кто, ково и за что отстрелял. А тут ишшо
эти прокладки. Ну вот, слушай, которы «олдиз» называют. Мужики их тут шибко
расхватывают. Да ты не смейся! Для рыбака перво дело — нога в тепле, а стельки
из их уж шибко хвалят — нога не потеет, и запаху нету-ка! Дак ведь ты не
поверишь — под 44-й размер идут. Вот те и американцы-изобретатели!
Ах, ты, етти твою мать! Дак ведь, не поверишь, я специально-то иё и не искал! Но
чисто коняк!
Дак вот все думаю — пошто она так-то выбродилась? Сентябрь ведь месяц, ночи вон
каки холодны, может, она в пакле стояла, дак у меня веранда-то северна сторона и
прогреваться-то не должна… Да ты-то откуда знашь? Скус-то иё забыл, поди. Может,
дрожжи каки новы были, дак повлияло.
Но — коняк! Чисто коняк!
Это кто там на лошади-то проехал? А-а, Семенка в магазин гонял. Они тут с
Тапычем чуть не сгинули. Помнишь дедка Тапыча, на перевозе работал? Дак втору
неделю уж пьют да пляшут на радостях-то. У Семена, вишь, морда-то как из мудей
сшита. Семенка-то корову к быку поташшил на ту сторону, ну и уговорил Тапыча за
бутылку корову-то его перевезти. Ну а чё, лодка-то хоть за одну, хоть за пять
бутылок, а под корову-то не рашшитана. Запихали иё в лодку-то, да ума-то ишшо у
обоих хватило за упруг привязать накоротке, а она, скотина, неловка — пить
захотела, возьми, да и потянись за борт. Вот полчаса и пили все втроем, пока к
берегу не прибило…
Дак ведь как вышло-то! То ли она спрятала эту банку от меня, да сама забыла?
Памятовала бы, дак сказала. А кто там иё ишшо мне в паклю-то поставит?! Она,
скотина, она! Я на иё думаю, все прятала — то в картовник запихат, то в сено.
Один раз в поленницу запихала. Дак ведь не лень было полполенницы разобрать!
Запихать-то запихала, а ума-то нет как следует поленья-то сложить. Оне у ей
ночью-то и рассыпались. Я спал уж, слышу, в огороде-то шум-гам, собаки залаяли.
Выскочил на крыльцо-то — ну, лешак, поленница-то развалена. Ближе-то подошел, но
етти его мать… Банка! Трехлитрова банка! Крышка политиленова. Ну чё, открыл.
Нюхнул. Брага! Но та не така была, не така, не успела, не набродилась! Дак ково
от меня прятать, в своем огороде-то? Да ишшо бы я иё не нашел…
А старухе-то? Да мешишко вот тут передадите. Свининки тут кусок, шшученки
солены. А чё я больше-то отправлю. Да все-таки не покупно!.. Но вы чё,
собрались?! Когда теперь?! Правильно говоришь: сёдни живешь, завтра копыта
откинешь. Вот, туда в багажник и затолкайте мешишко-то. Не мешат? Ну и ладно.
Да ведь понимашь, Михайло, я на браге вырос, а таку вот не пивал отродясь. Да
ведь чисто коняк! Ну прямо-таки коняк!
Cо свиданьицем
Вот и опять я дома! Вот тут когда-то была околица. Отсюда открывается вид на всю
деревню, вернее, на то, что от нее осталось.
Несколько домов сохранилось только на окраинах, в середине — большой пустырь,
заросший крапивой, с редкими остовами полусгнивших свай. Слева погост на холме,
белеющий свежеокрашенными оградками. Дальше разлив реки. Там ничего не
изменилось, те же лесистые острова, те же чайки и тот же ветер. Тоскливо и
бедно.
В день Святой Троицы я не поспел к родным могилкам. Вот теперь, день спустя,
бродим мы меж оградок со следами вчерашнего пиршества: яичная шелуха, пустые
бутылки, целлофановые кульки. На могилках — наполненные рюмки с водкой,
конфетки, печенюшки разные и цветы, искусственные цветы — мертвые среди мертвых.
Как ехать сюда, брат мне напомнил:
— Ты, паря, бутылку-то, бутылку-то не забудь, а то не примут нас там…
Вот и у нас тоже бутылка и горсть конфеток, как и положено. Тех, кого проводили
недавно, сразу нашли, выпили по рюмке да помолчали каждый о своем, но дальше
дядья, тетки, деды лежат, тут уж сложно разбираться стало…
— Слушай! Тетка Анна не здесь ли лежит?
— Да ты что, парень! Перед теткой Анной-то будут Николай да дядя Паша. Вот
поглядывай, у Николая памятник-то сварной, ну как бы печка с крестиком.
— Так тут у всех печки.
— Ну, у некоторых со звездочкой, а у него вот с крестиком. Да вот же дяди Паши
могилка!
— Да его ли?!
— Его, его! Крушину-то помнишь, вместе с тобой садили! Я с армии только пришел!
— Но, но, но… Теперь припоминаю. А это кто тут лежит?
— Так это Федор Василисин, утонул он. Это надо же, восемь лет прошло, а
похоронили будто вчерась. Вот, паря, время-то как летит! — философствует брат.
Долго бродили мы меж могил. Кого-то нашли, но не всех. Почти что случайно пришли
к деду Федору, тоже утопленник, царство ему небесное! Присели и тут.
— Ты-то постарше меня будешь, так должен бы его помнить?
Помню, помню, как мужики искали его всю ночь, а под утро нашли — около полыньи
шапкой обозначился. Везли его по раскисшему снегу на розвальнях, мужики брели
позади, негромко покуривая. Мама шла рядом и плакала. Дед лежал на спине,
околевшая рука свалилась обочь розвальней и чертила пятерней по снегу, как бы в
последний раз пытаясь ухватиться за землю.
Брат заговорил и вернул меня из далекого детства:
— А я помню: лежу на полатях да бумажный самолетик пустил, а дед в это время
бабку за што-то костерил, а самолетик-то возьми да и угоди ему в руку, он его
смял, да кулаком этак по столу — хрясь да хрясь, мать да перемать! Крутой был
мужик!
— Да и другой-то тоже не сахар был. Ну да ладно, до полудня-то к маме поспеть
надо.
В ногах ее три дерева — пихта, ель да сосна. Могилка прибрана, вчера здесь была
сестра. Рядом с мамой еще одно место оставлено — это для кого-нибудь из нас.
Рюмку наполнил и конфеток положил, и тут такой хаос воспоминаний и сострадания
наполнил мою душу, что уж совсем было собрался заплакать, да брат одернул:
— Но, но, не на похоронах ведь!
— Вот и свиделись, мама!
А когда выпил — отлегло. Вспомнилось мудрое: и радость, и горе в сердце своем
достойно нести умей…
Это уже не горе, горе позади, а оплакивать время — пустое занятие.
Теплый ветер легкими порывами тихо перебирал лепестки на бумажных ромашках —
любит, не любит. Внизу, у деревни, тарахтел трактор — там живые садили картошку.
В синеющих лесах, за разливами, куковала кукушка.
Опять кукует радостно кукушка, отсчитывая солнечные дни, и мы стоим у жизни на
опушке, а где-то молодость аукает вдали…
Когда уходили, я в последний раз оглянулся на родные могилы. Три бича, воровато
поглядывая на нас, сшибали наполненные рюмки и закусывали конфетками. Что уж
так-то, мужики?!
Да Бог вам судья, по вашей вере и воздастся вам!
|
|
 |
|
 |
|