|
|
|
|
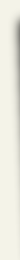 |

|
|
|
Согласитесь, любезный Читатель, в наши времена невозможно представить себя
беседующим с одним из старинных мастеров, из-под чьих золотых рук,
волшебствовавших с самыми различными материалами, выходили в многовековую
артистическую жизнь дивные музыкальные инструменты — струнные, клавишные,
духовые! — звучавшие поистине божественно, и высокое право на сие утверждение
дает нам их, инструментов, вечно таинственная способность доныне одухотворять
вроде бы глухонемую материю, наделяя ее непостижимой Красотой, что свойственно
лишь Богам, Ангелам самой Музыки, а также — не без их помощи — великим
представителям одного из редчайше ценных на Земле ремесел — ремесла изготовления
музыкальных инструментов, звучаниями своими радующих наши души, приобщающих наш
слух, как говорится, к гармонии надмирных сфер.
И вот представьте себе, лет семь назад случай свел меня с Анатолием Заярузным,
киевлянином, свалившим в Штаты после развала СССР. Разумеется, после русской
бани, самолично Толей выстроенной, мы распили бутылку. Сначала, увидев лютню
XVII века, затем пошетту — карманную скрипку, колесную лиру и клавесины с копией
картины Брейгеля на крышке да слегка «попробовав» их звучания, я просто не мог
так вот сразу взять и поверить, что каждый из аристократично выглядевших
инструментов Толя заделал собственными руками, причем заделал столь тонко и, как
говорится, абсолютно аутентично, то есть тютелька в тютельку — от древесности до
прочих мелких и мельчайших деталечек, — что возраст каждого инструмента казался
действительно многовековым, а не мальчиковым, к тому же лишенным какого-либо
пошловато модного в наши времена косметического «химичения».
От всего неожиданно увиденного да еще и натурально звучавшего я совершенно
обалдел, как от мечты, сказочно быстро воплощенной в реальность, вмиг отрезвел и
сразу же страстно попытался внушить Мастеру необходимость сообщить каждому из
чудесных инструментов новеллистично сочиненные истории их возрождения к жизни, к
артистической деятельности, к счастливому, как я узнал, пребыванию в
соответствующих отделах музеев и в руках коллекционеров.
Вскоре, как это ни странно, мой новый друг познакомил меня с рукописным
сборником такого рода очерковых новелл, буквально поразивших меня чистотой
литературного стиля, старинностью благородных интонаций и той простотой
изложения, напоминающей работу Мастера над ожившими предками нынешних
музыкальных инструментов, которая неподвластна никаким волевым усилиям, никаким
молитвам о даровании способностей, ибо она есть основная примета наличия у
личности дара Божьего да точное свидетельство имения у Небес неслучайных щедрот
и предпочтений.
Сочинения Анатолия Заярузного перед вами — беседуйте с их Автором, Читатель, как
беседовали бы с одним из отцов многовековых фиделей, виол, лютен и виржиналов,
утверждающих веру в бессмертие классической музыкальной культуры человечества.
Юз Алешковский
Коннектикут. США
Странствия музыкального мастера
Прикосновение
Рассказ
Центральный государственный музей музыкальной культуры им. Глинки в эти часы не
работал. В полной тишине — настоящей, музейной — наши шаги по паркету отдавались
гулом большого пустого помещения. Пустого, если не считать десятков музыкальных
инструментов, висящих, стоящих и лежащих в прозрачных шкафах, мимо которых
проходили мы — я, тогда еще начинающий музыкальный мастер, и Алексей Любимов,
уже признанный и концертирующий по всей Европе пианист и клавесинист.
Эти инструменты, обступающие нас со всех сторон, производили на меня волнующее,
но и несколько тревожное впечатление. Стеклянные шкафы вызывали ассоциации с
хрустальными саркофагами, а выставленные в них предметы напоминали мумии,
которые я мальчиком видел в лабиринтах Киево-Печерской Лавры. Так же, как эти
древние покойники, инструменты молчали уже столетия, и за каждым угадывалась
длинная история создания, оваций и забвения, как и за каждыми мощами есть своя
история рождения, жизни и смерти... Даже встреча, ожидающая меня в следующем
зале, встреча, ради которой я прилетел в Москву и ради которой директор музея
решился нарушить строгие музейные правила, не могла окрасить мое настроение в
солнечные тона.
Наконец мы достигли цели посещения и оказались в центре просторной комнаты,
называемой залом клавишных музыкальных инструментов. Здесь Алексей придвинул мне
стул, убедился, что стеклянный колпак снят и мне обеспечен свободный доступ к
экспонату, затем попрощался и оставил меня в полном одиночестве.
Сдерживая себя и намеренно замедляя движения, я достал металлическую линейку,
рулетку, фотоаппарат, миллиметровку и фонарик, разложил все аккуратно на полу. И
лишь после этого протянул руку и прикоснулся к... 1565 году.
Пентагональный спинет — компактная версия инструмента клавесинного семейства
длиной примерно 130 сантиметров — оказался легким, как фанерная коробочка. За
400 лет кипарис высох и стал плотнее. На первый взгляд спинет казался черным, но
стоило чуть присмотреться к поверхности его стенок, как проявлялась изящная
обильная золотая вязь узоров. Все торцовые поверхности украшены сотнями
«кнопочек» слоновой кости. Розетка поражает тонкостью пергаментных кружев.
Такими же узорами из пергамента украшены торцы клавиш, слегка погнутых временем.
Даже теперь, после сотен лет жизни, инструмент поражает утонченностью линий и
изяществом декора. Неудивительно: флорентийский мастер Марко Ядра сделал его по
заказу семейства Медичи! Всего в мире сохранилось только четыре клавесинных
инструмента этого мастера.
Мне предстоит изготовить копию одного из них.
Я измерил все, что можно было измерить, и сфотографировал все, что поместилось
на пяти катушках пленки. Я зарисовал то, что было видно только с фонариком.
Потом долго рассматривал каждую деталь — клавиши, толкачики, узелки на струнах,
следы резца на кости, стараясь запомнить, нет, не запомнить, а представить себе,
как это делалось, чтобы в точности повторить процесс создания, технологию,
работая теми же инструментами, и таким образом создать не просто внешнюю копию,
а двойник. Я почувствовал, что только в этом случае буду уверен, что инструмент
звучит так, как звучал при рождении «Марко Ядра» и будет отвечать прикосновению
пальцев музыканта так же, как его аналог сотни лет назад.
В дальнейшем я построил множество музыкальных инструментов, но кажется, именно
тогда в музее я впервые почувствовал значение слова «аутентичность», и
впоследствии этот принцип дотошного и бескомпромиссного следования оригиналу —
не только по форме, но и по содержанию, по духу — был начертан на моем незримом
гербе как основное правило музыкального мастера.
С такими благородными мыслями я и приступил к созданию копии «Марко Ядра
1565»...
***
Совсем немного утрируя, клавесин можно назвать одним из самых сложных и в то же
время простых инструментов. Его простота — в его механистичности. Возле
натянутой струны ходит вверх-вниз деревянная планка — толкачик. При нажатии на
клавишу он идет наверх, по дороге защипывая струну тонкой упругой пластиночкой —
плектром. Струна звучит. Идет вниз — касается струны мягкой подушечкой. Cтруна
замолкает. Чистая механика. Не очень прецизионная, кстати, потому что
сопряженные детали сработаны из древесины. Для хорошего слесаря или столяра это
не такая уж сложная задача. Насчет слесаря, кстати, я не обмолвился: в одной
церкви в Коннектикуте я встретил клавесин, склепанный полностью из алюминия.
Сложность клавесина, как ни покажется странным, также исходит из его
механистичности. Именно из-за того, что музыкант лишен возможности влиять на
окраску звука, огромное значение приобретают материал корпуса, струн, толщина
деки и многое другое, что создает некую сумму качеств, определяющих тот или иной
тембр, неповторимый голос инструмента.
Например, звук фламандских инструментов с их толстыми дубовыми стенками и
бронзовыми струнами похож на бой старых часов. А легкие кипарисовые итальянские
инструменты с тонкими стальными струнками, как мой аналог, звучат легко,
колокольчиками. Создать требуемый звук — задача для мастера весьма сложная.
Много времени ушло на поиски нужной древесины, на отработку непростой технологии
изготовления клавиш.
Очень интересно было прочерчивать «рентгеновский» вид спинета сверху, нанося
линии клавиш, струн, позиций толкачиков и структурные элементы деки. Марко Ядра
постепенно открывал мне свои производственные секреты.
Особое значение для звучания инструментов клавесинного семейства имеют плектры.
В некоторых инструментах они были сделаны из кожи, и тогда звук клавесина
становился чуть приглушеннее и легче, напоминая лютню. Этот ряд толкачиков так и
назывался — лютневый регистр. В моем же аналоге еще сохранилось с десяток
плектров из перьев птиц — чаще всего применявшегося для этой цели материала.
Разумеется, от частого и жесткого прикосновения к струнам перья быстро
изнашивались, их требовалось часто менять. На современных клавесинах стоят
дельриновые (род нейлона) плектры, которые практически «не устают».
Но как же аутентичность? Нет, дельрин на копии 1565 года меня никак не мог
удовлетворить. И я стал искать «исторический» материал.
Оказалось, что древние провели колоссальную исследовательскую работу по
определению лучших перьев для толкачиков. Неплохие результаты давали, например,
перья павлинов. Несколько лучшими признавались фазаны. Но на первое место
уверенно выходили маховые перья из крыла... вороны. А еще лучше — ворона.
Ворона и ворон — это не самка и самец, а разные птицы. На многих языках они даже
имеют разные названия. Ворон встречается намного реже, но все-таки он показался
мне более доступным, чем павлин или фазан. В конце концов, для начала подошла бы
и обычная ворона. Но все-таки, как именно мне добыть их перья? Вон их сколько
вокруг, прямо по тротуарам бегают. Но не стрелять же по ним из берданки? Из
берданки — нет, но, разгоряченный «благородной» целью, я решил стрелять из
рогатки.
Была сконструирована мощная боевая рогатка со стальной рамой и скрученной вдвое
резиновой лентой. Роль снаряда должен был сыграть стальной шар от подшипника. И
я вышел на охоту в пустынный в эту осеннюю погоду сквер.
Оказалось, я недооценивал свою потенциальную жертву. Когда я спокойно шел мимо,
вороны крутились буквально под ногами. Но стоило мне чуть замедлить шаг или даже
просто внимательно посмотреть на цель, как та моментально шарахалась от меня,
поднимая всю стаю, и тротуар на двадцать ближайших метров пустел. И все-таки
человеческая смекалка победила! После нескольких неудачных попыток мне
удалось-таки, заранее с усилием натянув резину и обманув бдительность одной из
ворон, вбабахать ей кусок металла прямо в бок!
Стальной шар отскочил от бронированного крыла, ворона крякнула, кажется, больше
от удивления, чем от боли, и улетела, не оставив мне ни перышка.
Я понял, что надо переходить к более решительным действиям.
Союз охотников Украины находился на углу улицы Карла Маркса и переулка Чекистов,
но, несмотря на это, производил впечатление тихой, мирной организации. Мне
показали лесника, который как раз подъехал на «газике». Я представился и вкратце
объяснил задачу: нужны маховые перья вороны. Не будет ли любезен товарищ лесник
подстрелить пару ворон и отрезать у них крылья для народного мастера Украины?
«Нет проблем, мы все равно отстреливаем ворон на свалках, где их развелось
слишком много...» Договорились по пятерке за крыло. «А как насчет ворона?» —
спросил я. — «Это сложнее, их мало, надо искать». — «Поищите…»
Лесник оказался деловым человеком и уже через пару дней, встретив меня в своей
комнатке, указал на стол, на котором я увидел несколько крыльев и... средних
размеров черную птицу, которая, прижавшись к стене, глядела попеременно то на
меня, то на хозяина кабинета.
— Вот эти, — он кивнул на грудку перьев на столе, — вороньи, а это — ворон.
Молодой еще. Не добил его, только ранил. Так и бросил в машину. Да ты не боись,
он долго не протянет, давай свою сумку.
Я обалдело молчал, не сводя глаз с вороненка. Черная глянцевая, как будто
сгорбленная фигурка. Круглые блестящие глаза с устало закрывающимися веками.
Красная капелька в углу клюва...
...Вагон метро был полупустым.
У моих ног стояла большая хозяйственная сумка. С несколькими маховыми перьями и
полумертвым вороном. Мне его было жалко до слез.
Казалось, все в вагоне слышат, как он копошится.
И все знают, что я заказал убийство.
Если правда, что ворон живет 200 лет, я отнял у него по меньшей мере 180 лет
отрочества, юности, возмужания и старости. Взамен его жизни я получу особенный
тембр клавесинной струны... Меня уже не радовала эта перспектива. Вообще все
клавесины, струны, мастерская со станками мгновенно отодвинулись куда-то в
осенний туман, а на главное место вышел единственный звук — слабое шуршание
внутри сумки.
Эти полчаса в метро никогда не уйдут из моей памяти. Не помню точно, о чем тогда
думал и к каким решениям приходил. Помню только частый стук собственного сердца.
Дома долго не решался вынуть из сумки ее уже притихшее содержимое. Когда все же
прикоснулся к вороненку, тут же отдернул руку: он был еще теплым. Я аккуратно
завернул тельце вместе со всеми приобретенными крыльями и закопал в песке на том
же бульваре, где впервые вышел на охотничью тропу.
После своего первого «марко» я построил более тридцати клавесинов, виржиналов и
спинетов. Во всех толкачиках были вставлены дельриновые плектры. Они производили
прекрасный звук, практически не нуждались в замене даже после многих лет службы.
С ними было легко работать. И стоили они недорого.
Во всем остальном инструменты аутентичны.
***
...Вспомнилось письмо из очередного бюллетеня Товарищества мастеров исторических
инструментов (Оксфорд), короткое и пронзительное, как пощечина:
«Моим уважаемым коллегам, которые считают неэтичным применять искусственную
слоновую кость при изготовлении исторических копий блокфлейт: как оцениваете вы
убийство слонов ради бивней с точки зрения вашей этики?»
О двух струнах, или путешествие в средневековье
Быль
1
Ощущение было непривычным. Казалось, мы скользим по дну оврага, и его края
возвышаются над нами. Я еще никогда не летал в горах. А этот биплан и
самолетом-то назвать трудно. Пассажиров было с дюжину, так что салон был
загружен полностью. Мы сидели в два ряда, друг против друга. Мотор стрекотал
довольно шумно, но голос моего случайного попутчика я слышал отчетливо. Может
быть, еще и оттого, что слушал внимательно. Я впервые оказался в Дагестане,
впервые летел в воздушном такси в настоящий горный аул. Мой сосед, Исмаил,
оказался местным уроженцем, очень приятным парнем. Мы были примерно одного
возраста, оба учились в институте — я в Киеве, он в Москве, и поэтому, наверное,
потянулись друг к другу как люди, близкие по духу и заранее предчувствующие
неизбежное для случайных попутчиков расставание.
«...Я тогда работал в райкоме комсомола инструктором. И вот послали меня и еще
одного товарища из Махачкалы в тот аул посмотреть, что там происходит, почему
взносы никто не присылает, отчеты... Отрядили нам «газик» с русским шофером, и
поехали мы. А это высоко в горах, очень далеко. Водитель попался неопытный, ехал
медленно. Добрались мы только к вечеру второго дня. Ну, приезжаем и, как
принято, идем к самому уважаемому человеку в ауле. Ты думаешь, кто самый
уважаемый в ауле? Председатель? Секретарь парткома? Ничего подобного. Учитель
русского языка! Он самый грамотный. Встретил нас радушно, накормил, положил в
лучшие постели в доме. Ночь я спал ужасно. Клопы искусали. Наутро выходим во
двор мыться. Жена учителя, как водится, поливает из медного кувшина. Большой
такой кувшин, тяжелый от воды. Пока напарник умывается, я стою и чешусь вовсю.
Учитель спрашивает, неужто покусал кто? А я вместо того, чтобы отнекиваться,
пошутил: ничего, мол, заживет до свадьбы. И тем, значит, признал, что да,
покусали. Я же не знал, что будет дальше! А дальше он размахнулся и как даст
кулаком по лицу своей жене! Та упала вместе с кувшином. Потом подобралась и тихо
скользнула в дом...»
(По движению в салоне я понял, что «кукурузник» приближается к месту своего
назначения...)
«...Думаешь, он не знал, что у него клопы в доме? Знал, конечно. Но отреагировал
согласно законам гостеприимства, показал свое уважение к нам... Переглянулись мы
с напарником и решили немедленно ехать обратно. Какое расследование, какой
комсомол? И это самый грамотный и цивилизованный человек в ауле!
Средневековье!.. В общем, собрали мы быстро свои шмотки, сели в машину. А
водитель сидит бледный и мелко так дрожит. Он только сейчас, утром увидел, по
какой дороге въехал в село. А дорога эта — дощатый настил на бревнах, вбитых в
скалу, на высоте несколько сот метров от дна ущелья. Пришлось вызывать местного
водителя из района...»
Самолетик тем временем, не опускаясь и не поднимаясь, «въехал» на поле
аэропорта, такого же крохотного, как и он сам. И тут же остановился. И я
оказался в горном Дагестане!
— Зайдем к нам, перекусим с дороги, — предложил Исмаил. — Дядя у меня —
интересная личность. Между прочим, учитель русского языка.
Я не смог скрыть осторожного взгляда. Исмаил рассмеялся.
— Да не бойся, он не такой, как тот. Хороший дядька...
2
Родственники Исмаила действительно оказались милыми стариками. Нас накормили
мамалыгой — густо сваренной смесью сыра с мукой. Не то, чтобы изысканная, но
очень сытная еда пастухов в горах. После обеда состоялась развлекательная
программа. Учитель играл на струнном инструменте, а его внук лет пяти танцевал
лезгинку. Да как танцевал! Он носился — парил! — на пуантах вокруг стола и по
всей комнате, как птица. Я был совершенно очарован!
Танец продолжался достаточно долго, так что я успел обратить внимание и на
инструмент...
Вообще-то я заметил его сразу, как вошел в дом. Он висел, матово-белый, в центре
ковра на фоне его черно-красных разводов. Легкие вытянутые очертания, упруго
выдающийся назад резонатор, тонкая длинная шейка грифа вызывали ассоциацию с
обнаженной девой. Даже головка орла, венчающая инструмент, не мешала этому
образу. Возможно, потому, что над карандашными глазами хищной птицы были
наведены — тоже карандашом — изогнутые брови (!).
— Это пандур, — с гордостью владельца редкости обронил учитель, заметив мой
интерес...
Несмотря на наличие только двух нейлоновых струн, пандур звучал очень насыщенно.
Он, по-видимому, обладал тонким и чутким резонатором. Кроме того, старик играл
«бряцанием», то есть ударял обе струны одновременно в остром ритмическом
рисунке. А поскольку струны располагались очень близко от деки, пальцы музыканта
задевали дерево, рождая что-то между стуком и шорохом. Таким образом, пандур
выступал одновременно и струнным инструментом, и барабаном.
Его звук производил не менее завораживающее впечатление, чем движения танцора.
Мелодия и ритмика лезгинки были очень хорошо знакомы мне еще по детским годам,
проведенным в Грузии. И сейчас мне было интересно наблюдать, как пальцы
музыканта, охватывая гриф кольцом, заставляют одну из струн петь мелодию, а
другую — аккомпанировать этой мелодии тягучей древней квинтой. Мне ужасно
захотелось подержать пандур в руках и попробовать сыграть точно так же, как
играет этот старый аварец. И когда тот уже собирался повесить инструмент на его
почетное место, я осторожно попросил разрешения поиграть...
Было видно, что хозяин согласился неохотно, только из вежливости. Он протянул
мне пандур, заметив что-то вроде: «Это не так легко — играть на нем...»
Инструмент действительно казался невесомым. Он был целиком выдолблен из липы, с
тонкой сосновой декой. Я с трудом представлял себе технологию непромышленного
изготовления столь глубокого и тонкостенного корпуса. Эргономика была идеальной.
Шейка грифа легла в ладонь, как в постель, а корпус удобно устроился на коленях.
Звук родился сам собой и был, по-моему, точным повторением того, что я слышал
несколько минут назад...
— Вы, наверное, очень способный человек, — с неудовольствием пробурчал старик,
приняв пандур у меня из рук.
А я уже был окончательно влюблен в этот изящный в своей простоте инструмент, не
покрытый никаким лаком или краской, не украшенный резьбой или инкрустацией, с
рыболовной леской в качестве струн, с бровастым орлом на вершине и шейкой,
отшлифованной чьими-то ладонями и постоянством вековых традиций.
Оказалось, что пандуры делает (и этот тоже сделал) Ахмет, сторож колхозного
сада, живущий «во-о-он там, видите — белый домик? Там можно его и найти».
Я тепло распрощался с все еще как будто обиженным старым учителем и его милым
семейством и, пока не стемнело, поспешил в свой туристский приют «Орлиное
гнездо».
3
Турбаза оказалась как турбаза. Ряды кроватей. Запись на экскурсии. Компот из
сухофруктов — на третье. Вечером — танцы. Порядок и дисциплина. Танцы начались
по расписанию, ровно в восемь. В восемь двадцать я пригласил на танец
хорошенькую москвичку Таню. В восемь сорок ко мне подошли несколько местных
«джигитов», продемонстрировали небольшой кинжал и попросили никогда не подходить
к Тане и вообще испариться. В восемь сорок пять я решил отправиться на поиски
Ахмета и пандура...
4
Это только казалось, что домик Ахмета недалеко. Часа полтора быстрым шагом по
плато — а я как будто совсем к нему не приблизился. А тут еще совершенно
неожиданно плато оборвалось, и на моем пути возникло небольшое ущелье, этак
метров пятьдесят глубиной. Я озадаченно осмотрелся. Никаких тропок через ущелье
не наблюдалось. Не наблюдалось вообще никаких дорог, домов, никакой жизни. Нет,
ошибся. Рядом со мной почувствовалось какое-то копошение, и будто ниоткуда
возникла небольшая группка ребятишек. Их было четыре-пять человечков возрастом
до девяти-десяти лет. К старшенькой (которая девяти-десяти) платком был подвязан
к спине самый маленький. Девочка довольно бойко говорила по-русски и, поняв мое
затруднение, сказала что-то гортанное младшему брату. Тот, жестом пригласив меня
следовать за ним, горным козликом стал перепрыгивать с камешка на камешек, и не
успел я опомниться, как уже стоял на дне ущелья на своих трясущихся от
напряжения и подламывающихся от страха ногах. Малыш показал мне малозаметный
подъем на противоположную сторону каньона и исчез так же быстро, как и
появился...
Вот так, пересекая равнины и овраги, я приближался к своей цели. Небо было
синим, солнце — по-сентябрьски ласковым, горы — спокойными и мудрыми. На душе
было хорошо и думалось с удовольствием.
А думал я в те времена большей частью о музыкальных инструментах...
5
«Примитивные музыкальные инструменты»... Есть что-то обидное в этом научном
названии огромной группы инструментов, созданных безвестными изобретателями на
музыкальной заре человечества. Да и в разговорном жанре встречается
пренебрежительное «одна палка, два струна...»
Мы ведь привыкли смотреть на эти «примитивные» инструменты как на нечто данное и
застывшее, существующее вне времени и обстоятельств, как ручей или ветка дерева.
Но стоит внимательнее присмотреться к ним, и поневоле приходят удивление и
уважение к их создателям. Благодаря своей наблюдательности и находчивости они
придумали сотни, нет, тысячи оригинальных приспособлений для извлечения
музыкальных звуков. Приспособлений, многие из которых вполне «тянут» на
изобретения.
Кому-то же пришло в голову впервые прикрепить лук к высохшей тыкве и тем
заложить генетическую линию лютни и гитары. Кто-то же догадался натянуть
несколько высушенных жил на угловатый сук, и так получился первый звукоряд и
первое многоголосие. Кто-то связал вместе тростниковые трубки разной длины (чему
до сих пор должны быть признательны все органисты мира), а кто-то вместо этого в
одной длинной трубке (впервые!) прожег несколько отверстий, которые через тысячи
лет назвали аппликатурными и без которых мы не знали бы флейты и кларнета.
Мы поставили памятники первопечатнику и создателю первого космического корабля.
Называем города и улицы в честь первых маршалов и президентов. Снимаем фильмы о
первых, сказавших «нет!» или крикнувших «ура!». Но кто и когда попытался воздать
должное человеку, который впервые догадался натянуть кожу на старую деревянную
ступку и взять в руки две палки? А что бы слышали без этого солдаты на плацу или
почитатели джаза на фестивале в Монреале?
Это уже потом, через сотни лет появятся теория акустики, школы, инженеры,
краснодеревщики и ювелиры, создавшие такие шедевры музыкального ремесла, как
скрипка Гварнери, арфа Эрара и рояль Стейнвея. О, я далек от того, чтобы
принизить их значение! Именно благодаря всплеску развития науки, техники и
искусств в новое время инструменты превращаются в предметы роскоши и, с другой
стороны, в профессиональные музыкальные устройства.
Талантливый бельгиец Адольф Сакс изогнул тонкостенный металлический конус
кларнета буквой «S», сделав удобным исполнение на инструментах низкого регистра,
и тем положил начало целому семейству саксофонов.
Итальянец Бартоломео Кристофори ввел небольшое (но революционное!) изменение в
клавишный инструмент — и музыкант впервые смог модулировать динамические оттенки
— от тихого звука (piano) до громкого (forte). Этот инструмент сам автор назвал
«клавесином с тихим и громким звуком». Гениальному Кристофори не хватило
понимания того, что он изобрел не разновидность существующего инструмента, а
принципиально новое устройство, которое изменит впоследствии всю музыкальную
среду общества! И общество само изобрело новое название этому инструменту —
фортепиано, просто отбросив слово «клавесин».
Пожалуй, самый технически сложный механизм в музыкальном инструменте придуман
французским изобретателем Себастьяном Эраром для концертной арфы. С помощью
сотен рычагов он передает движение ножных педалей поворотным тангентам к каждой
из пяти десятков струн, понижая или повышая их звучание на полтона.
И все же эти и многие другие нововведения базировались на уже бытовавших
инструментах, идеях и опыте. Это были усовершенствования существующего...
6
...Домик Ахмета возник неожиданно и показался еще меньше, чем виделся из аула
Исмаила. Это была каменная сторожка метра три на три с маленьким окошком-щелью
под потолком. Дверь была открыта настежь. На пороге сидел сам хозяин и отбивал
молотком свинцовые пули — картечь. Ахмет стерег сад от диких кабанов.
Мы познакомились, разговорились. Впрочем, Ахмет был молчалив, как и положено
горцу. Говорил и спрашивал больше я. Мне повезло в тот день: Ахмет только что
закончил очередной пандур. Я попросил показать инструменты, которыми он работал.
Мастер кивнул в угол комнатки, где я увидел топорик, рыжий от ржавчины напильник
и нож. Я спросил также, какой толщины стенки корпуса. Ахмет молча показал
пальцами толщину спички...
Я сфотографировал сторожа-Мастера на память и отправился дальше, в ближний аул,
в котором останавливался маршрутный «рафик» по дороге в Махачкалу.
В маленьком рюкзачке за спиной покачивался мой пандур.
На автобусной остановке было несколько человек, в том числе небольшая группка:
парень призывного возраста и его свита — пять-шесть пацанов гораздо младше его.
Парень бросил на меня взгляд, подошел поближе. Вспомнив свой недавний контакт с
местным юношеством, я было приготовился к продолжению демонстрации национального
холодного оружия. Но в этот раз, оказалось, встреча носила дружелюбный характер.
— Пандур? — коротко спросил парень.
— Пандур! — также односложно ответил я.
— Можно?
Что за вопрос! Я понял, что мне опять повезло. Сейчас я услышу аутентичное
исполнение аварца на только что изготовленном пандуре. Жаль, не было какого-то
магнитофончика, чтобы записать на память!
Парень приладил инструмент, тронул струны, попадая в тональность, и запел.
Это была классическая песня типа «что вижу, о том пою». Или «о чем думаю, о том
пою». Такое исполнение специфично для многих народностей. Так же поет нанаец на
оленьем пастбище или индеец, возвращаясь с охоты. Содержание, конечно, было
иным, но так же покоряло естественностью, колоритом и, безусловно,
музыкальностью. И надо было видеть, с какой серьезностью пел юноша, и с каким
обожанием взирали мальчишки на своего старшего товарища.
За давностью лет я не могу ручаться за буквальность текста. Но характер и, самое
главное, основное содержание помню отлично.
Вино — вкусный напиток,
Но некрепкий, к сожалению...
Коньяк — гораздо крепче,
Но... очень дорогой!
А лучше всего —
Водка!..
7
Нечасто в наше время можно встретить музыкальный инструмент, который достоин
чести называться «примитивным». Никакие лаки и перламутровые инкрустации не
придают такой ценности инструменту, как его древний облик и изящество
конструкции, пережившей века.
Правда, и в наше время инструменты продолжают рождаться. В Нижнем Манхэттене как
раз напротив статуи Свободы можно увидеть и услышать чернокожих музыкантов,
играющих на удивительных самодельных инструментах, называемых «стальными
барабанами», или «мисками» (pan). Изобретены они недавно, в 1930-е. Даже
электронные синтезаторы — более старшие жители, чем эти музыкальные инструменты,
впервые изготовленные в Тринидаде из 55-галлонных железных нефтяных бочек —
мусора баз ВВС Соединенных Штатов. Сделать их без опыта почти невозможно, а
описать звук бесполезно. Лучше просто услышать самому. Для этого достаточно
задать в Интернете поиск на слова «steel drum» и послушать аудиозапись.
Однако это скорее исключение из правил. В основном музыкальный инструментарий
человечества сложился полностью, и ничего революционного на концертных
подмостках, скорее всего, не появится.
Рождаются и развиваются только новые музыкальные формы.
Растет мастерство музыкантов.
И вместе с ними совершенствуются инструменты.
Начиняются электроникой, облагораживаются сложными сплавами, сверкают лаками.
Дразнят слух, глаза и воображение...
8
Когда мне было шестнадцать, я регулярно заходил в магазин «Культтовары» и
замирал надолго, глядя на выставленную для продажи электрогитару. Это был
роскошный по тем временам инструмент, сделанный в Чехословакии (импорт!),
сияющий лаком и хромом и по цене абсолютно недоступный мне. Наверное, с таким же
чувством шестилетние мальчишки не могут оторваться от «настоящей» железной
дороги под рождественской елкой!
Теперь в свои шестьдесят я частенько заезжаю в «Sam Ash», обычный американский
магазин музыкальных инструментов. И так же со стесненным дыханием не могу
оторваться от этих сотен удивительных предметов, позволяющих воспроизводить и
слышать Музыку — речь нашей Души. Они прекрасны в той же степени, в какой
прекрасна Музыка.
Благородные французские кларнеты черного дерева. Звонкие американские трубы,
покрытые тончайшим слоем золота. Гордые палисандровые испанские гитары.
Изысканные английские спинеты из белоснежного клена. Безукоризненная японская
электроника — от скрипки и контрабаса до клавишных и ударных. Они сияют бликами
освещения, множатся в зеркалах. И оторваться от этого зрелища невозможно!
Захватывает дыхание еще и от того, что любой из этих великолепных предметов в
принципе доступен тебе. Только выбирай...
И я балую себя время от времени. Утешаю в себе того подростка у прилавка
«Культтоваров». То ударную установку куплю. То набор губных гармошек. То пару
бонгов...
Непонятно только, почему вспоминаю тот пандур время от времени.
Досадую, что не смог сохранить, привезти с собой.
Скучаю по нему...
Каменная моя лира
Опыт очерка-реконструкции
Старик опустил руки и откинулся назад к стволу толстенной вербы, укрывшей его
своей прохладной тенью. Не было сил отгонять даже слепней, терзающих потертые
веревками плечи и расцарапанные кустарником лодыжки. Отдышавшись немного (эти
нескончаемые холмы Фландрии!), лирник пристроил сначала свой инструмент,
виель-а-руа, на возвышении из нескольких камней. Царапин на колесной лире так
или иначе не прибавится — просто некуда больше. Но зато подальше от земной
разрушительной влаги.
На инструмент и вправду было больно смотреть. Весь перевязанный проволокой,
стянутый кожаными тесемками и усеянный доброй сотней гвоздей и железных заплат,
он, похоже, опять нуждался в ремонте. Трудно уже сказать, чего больше в его весе
— дерева или металла. И то сказать, 35 лет — даже для человека возраст
почтенный.
Лирник открыл дверцу колковой коробки, достал ломоть хлеба, завернутый в чистую
холстину, и головку лука. Виель отозвалась эхом задетой струны.
Старик вспомнил, как делал виель совсем мальчишкой, прячась от старосты. Его цех
печатников входил в одну гильдию с цехом музыкальных мастеров. Никто не знал (да
и не любопытствовал), почему. Так повелось много лет назад. «Печатники» и
«музыканты» помогали друг другу. Это было записано в уставе. Его самого
неоднократно посылали к ремесленникам с очередной пачкой бумаги с оттиснутыми
танцующими дельфинами, которой те оклеивали свои виржиналы и клавесины. На
обратном пути прихватывал отремонтированные рамки или гравированные деревянные
клише с новым узором. Только он не спешил обратно. Аромат свежей стружки
волновал больше, чем запах красок и пота подмастерьев, растирающих эти краски в
больших ступках.
Вот так, подсматривая и обучаясь понемногу, он собрал свою виель. Инструмент
оказался на удивление звучным и даже привлекательным внешне. Слегка суженная
талия придавала ему стройность, а широкая длинная коробка, в которой прятались
тангенты — выдвижные клавиши — и широкая дугообразная крышка, прикрывающая
колесо — сообщали солидность и внушительность. Жаль, что нельзя было
похвастаться в цехе. «Печатникам» не разрешалось заниматься ремеслом
«музыкантов». И наоборот. Это тоже было записано в уставе. Но в родной деревне
редкий праздник или свадьба обходились без его громкой лиры и не менее зычного
голоса. Недаром самая красивая девушка селения пошла за него замуж!
Давно это было...
Старик смахнул крошки в рот, запил водой из кожаной кружки и вновь взглянул на
колесную лиру. Он любил свою виель, как живое существо. И прекрасно видел ее
слабости.
Конечно, суровая походная жизнь губительно отражается на этом инструменте нищих
и менестрелей. Но, с другой стороны, его конструкция не очень-то и соответствует
условиям жизни бродячего музыканта. Например, эта арочная крышка колеса. Самую
нежную часть инструмента — поверхность фрикционного колеса — она может защитить
разве что от камешка, брошенного мальчишкой. Да и то если камешек небольшой. Она
не спасает ни от дождя, ни от ветра с пылью, ни от пивной пены или капель
мясного соуса. А какая свадьба обходится без этого «набора»!
А тонкие нежные струны? Как ни натирай их воском, грязь, брызнувшая из-под
копыта лошади, доберется до крученых бараньих жил... Да и сама форма корпуса —
эта плавность, закругленность линий — отнюдь не способствует прочности и
надежности уличного инструмента. Расклеивается такой корпус легко, а вот склеить
или отремонтировать его — проблема...
Лирник вздохнул, прикрыл веки. Он вздремнет немного. А потом опять займется
ремонтом виели.
***
Гарвард, Гарвард! Светоч наук! Легенда наяву... Пока дочь заканчивает
контрольную по немецкому (музыковед должен знать немецкий, как певица —
итальянский), я брожу по залам одной из его замечательных библиотек.
В ней собраны факсимильные издания манускриптов, рукописей, ценнейших фолиантов.
Открываю ближайший том. Копии нотных страниц, писанных рукой Моцарта. Нотные
знаки, стремительно бегущие друг за другом, без перечеркивания и исправлений.
Стоп! Большая чернильная клякса! Еще одна. Композитор спешил? Или подцепил в
чернильнице муху? Вот еще два чернильных пятна поодаль. Нет, на мух не похоже,
больно много их для одной страницы. Плохое перо? Что же мешает заточить получше
или заменить? Время? Значит, все-таки спешил. Торопился угнаться за
вспыхивающими музыкальными образами, спешил записать их, пока помнил, пока не
сменила их следующая волна фантазии и вдохновения...
Много зашифровано в старой графике, живописи, рисунках и гравюрах. И не только
изобразительное искусство дает почву для наблюдений и исследований. Чернильная
клякса с пера Моцарта среди торопливых каракулей нот — чем не ценный образец
«исторической графики»!
Музыкальная иконография занимала меня давно. И очень жаль, что мое увлечение так
никогда и не вызрело в профессию.
Где мои 22 года! Как счастлив я был бы оказаться здесь, в этой уютной
сокровищнице, и писать научную работу под таким, например, названием:
«Практическая музыкальная иконография». О чем мог быть этот труд?
О том, как искать в исторических источниках изображения музыкальных
инструментов, как классифицировать и «расшифровывать» эти гравюры и полотна,
видеть в образах реальные объекты. О том, как изучать изображенные музыкальные
инструменты, бывшие когда-то в реальности, определять их музыкальные свойства —
технику игры, звукоряд, регистр. О том, наконец, как реконструировать их,
выполнив «живьем» в дереве или металле, чтобы услышать звучание, просто
подержать в руках...
Увы, я уже не напишу такого труда. Хотя именно практической музыкальной
иконографией я в свое время все-таки занимался.
Было это без малого 30 лет назад. Тогда я получил заказ на изготовление
средневековой колесной лиры...
При всем поразительном разнообразии музыкальных инструментов позднего
Средневековья и Ренессанса колесная лира все же удивляет своими уникальными
свойствами — конструктивными и музыкальными. Основная идея проста: на
резонаторном корпусе натянуты струны (как, например, на гитаре). Близко к краю
струн их касается торцовая поверхность деревянного колеса (представьте, как
круглый точильный камень затачивает нож). Это колесо почти полностью спрятано
внутри корпуса и приводится в движение ручкой (как, например, в граммофоне). При
вращении колеса его выступающий над декой край трется о струну и рождает звук
(так, как это делает скрипичный смычок). В то время как одна рука музыканта
вращает ручку колеса, другая нажимает на клавиши (как на фортепиано или баяне).
Клавиши своим небольшим выступом касаются мелодических струн в разных их местах,
и таким образом меняют их звучание (так, как это происходит с левой рукой
виолончелиста при игре).
Вот эти множественные аналогии («как на гитаре, скрипке, пианино...») приводят
практически к тому, что лира не уживается безоговорочно ни в одном видовом
семействе. Она и клавишный, и смычковый, и механический инструмент.
С точки зрения музыкальной она также неоднозначна. Отключение (или подключение)
одной или нескольких струн превращает ее то в мелодический, то в гармонический
инструмент. Для этого лира имеет как мелодические струны, которые играют
мелодию, так и бурдонные, которые тянут однообразный гармонический
аккомпанемент. Она может играть и кантиленным, протяжным, бесконечно тягучим
звуком, а может — благодаря сложной технике вращения фрикционного колеса —
играть и дробной, барабанной фактурой. Лира могла заполнять своим звуком большие
церкви. На таких полутораметровых инструментах играли два монаха. Но она могла
быть и маленьким инструментом с негромким нежным звучанием. Как изящные
французские «дамские» лиры XVI века.
Перечень интересных свойств колесной лиры на этом не исчерпывается. Лира может
солировать одна, аккомпанировать голосу или флейте, но звучала она и в составе
ансамблей — бродячих уличных или при дворе Людовика. Кстати, именно тому
времени, барокко, принадлежат опыты совмещения лиры с другими инструментами.
Представьте себе изящный инструмент в форме виолы, украшенный слоновой костью,
черепахой и перламутром, внутри которого каким-то чудом помещается миниатюрный
органчик. Самая большая органная трубка — длиной с карандаш, а воздух подается
мехом, который качают той же ручкой, что вращает колесо лиры!
И наконец последняя загадка колесной лиры. Как могло произойти, что при огромной
популярности этого инструмента в течение многих столетий он совершенно вышел из
употребления даже в сельских районах и оказался совершенно забытым к нашему
времени!
В общем, я был несказанно рад, когда получил заказ от одного известного
московского ансамбля ранней музыки на изготовление лиры!
К тому времени у меня сложилась весьма ценная библиотека по музыкальной
иконографии, пожалуй, одна из самых полных в стране. Она состояла из сотни
наименований на немецком, польском, английском, чешском и других языках из
многочисленных журналов, музейных каталогов и отдельных статей по истории
инструментов. Я скрупулезно выуживал и складывал в папки репродукции картин и
графики, на которых присутствовали в том или ином виде инструменты. Не брезговал
даже почтовыми марками, которых тоже немало набралось.
В течение нескольких недель вся это богатство было тщательно, страница за
страницей, просмотрено. Все статьи и изображения лиры были занесены в отдельные
карточки и систематизированы по времени и странам. Всего в моем каталоге
колесных лир оказалось несколько сот карточек. Наконец я приступил к одному из
самых интересных процессов — сравнительному анализу конструкций колесной лиры...
***
Этот фокус всегда вызывал оживление зрителей. Правой рукой старик вращал колесо
виели, причем рывками, заставляющими бурдонные струны звучать в сложном
барабанном ритме. А левая рука в то же самое время прижимала к его губам
продольную флейту, на которой он играл весьма искусно. Называлась она
«барабанной флейтой», потому что играла обычно в паре с барабаном, висевшим на
поясе музыканта. Играть двумя руками на разных инструментах, да еще в
несовпадающих ритмах — дело чрезвычайной сложности, можно сказать — искусство!
Но лирник еще в молодости достиг в этом высокого мастерства.
Давным-давно, после смерти своей совсем еще молодой жены, он поклялся никогда
больше не петь песен и с тех пор бродит по «фландриям-нормандиям» из села в
село, из города в город с единственной подружкой — виелью, кормилицей своей. А
барабанная флейта заменила ему голос.
Со временем он научился сопровождать флейту довольно сложным ритмом бурдонов. И
протяжная богатая обертонами виель придала этому странному инструментальному
дуэту свежесть и сочность.
Столпившиеся у обочины дороги слушатели потеснились, пропуская большую дорожную
повозку. Две пары коротконогих, сильных и ухоженных лошадей темной масти, хорошо
одетый кучер, сама крепко сработанная из дуба карета с резным гербом на дверцах
указывали на знатность и богатство ее владельца. О том же свидетельствовали
притороченные к повозке сундуки и корзины со снедью и всем, что могло
пригодиться в долгой дороге. Неожиданно карета остановилась. Тяжелая бархатная
занавеска в дверце отодвинулась, и в маленьком квадратном проеме окна проступил
детский силуэт. По-видимому, вскочить и высунуться в окно было строжайше
запрещено, и потому старому лирнику были видны только золотистые локоны,
обрамляющие бледное детское личико и огромные темные глаза, в любопытстве и
восхищении глядевшие на него.
Было очевидно, что ребенку выделена только минутка на этот неожиданно
встреченный в долгом и нудном путешествии аттракцион. Что сейчас занавеска
закроется, и девочка снова будет обречена на часы томительной поездки. Спина
опять будет неметь от неудобной прямой спинки диванов, а высокий воротник платья
будет, как и раньше, впиваться в тоненькую шейку своим узорчатым золотым шитьем.
Но пока... Заливистая птичья трель флейты переплеталась с низким сложным
рисунком ритма, а терпкая кварта басов будто поливала мелодию густым медом.
Старик улыбнулся девочке одними глазами и окончил песню прямо-таки соловьиной
руладой...
Карета тронулась. В последнее мгновение в окошке мелькнула белая холеная рука, и
на пыльную дорогу упали две золотые марки. Толпа подивилась щедрости милостыни,
разошлась.
Старик же долго еще глядел вслед повозке своими воспаленными, но по-прежнему
зоркими глазами и шевелил губами беззвучно. И если бы кто-нибудь смог проследить
за точным направлением его взора, он бы с удивлением обнаружил, что
бродяга-музыкант пристально рассматривает привязанный к задку кареты длинный, но
небольшой в сечении сундучок, в котором обычно возили оловянную или серебряную
дорожную обеденную посуду...
***
Как и следовало ожидать, ни одного оригинала, относящегося к интересующему меня
периоду, в музеях не сохранилось. Стало быть, мой инструмент будет не копией, а
репликой исторической лиры. Собственно, так и была поставлена заказчиком моя
задача: разработать образец наиболее типичного инструмента, бытовавшего в
Северной Европе в XIII–XIV веках.
Лиры, однако, не желали подразделяться на «типичные» и «нетипичные». Каждая
норовила отличиться чем-то неповторимым, своим. То резонаторным отверстием в
виде бойницы крепостной башни, то сильно вытянутой «восьмеркой» корпуса...
Тогда я пошел обходным путем. Я стал рассматривать лиру как механизм, собирающий
в себе отдельные самостоятельные конструктивные элементы. Такими элементами,
например, можно считать габаритный размер, форму корпуса, форму и конструкцию
колковой коробки, число клавиш, форму и число резонаторных отверстий и некоторые
другие.
Отдельные элементы гораздо легче типизировать. И если впоследствии «собрать» из
этих типичных составляющих деталей цельную конструкцию, то такой инструмент,
видимо, и будет отражать типичную колесную лиру данного времени и региона...
Начал я с самого различимого элемента на рисунках — конфигурации резонаторного
отверстия. Немного поразмыслив, я добавил в массив данных и другие инструменты —
лютневидные, скрипичные и прочие струнные. Ведь лира возникла и развилась не в
одночасье и не на необитаемом острове. На ее дизайн, несомненно, оказывали
влияние и другие инструменты.
В результате у меня получилась вертикаль, слева от которой располагались сверху
вниз периоды — X век, XI, XII и дальше, вплоть до барокко. А справа — резонаторы
инструментов, относящихся к этим периодам. Это уже «тянуло» на небольшое
исследование, и я даже написал короткую статью на эту тему в один оксфордский
журнал. Одним словом, дело пошло...
Через несколько недель я смог показать заказчику черновую зарисовку колесной
лиры. Получился инструмент довольно больших размеров, сантиметров 70, с несильно
выраженной «талией», круглой в плане колковой коробкой. Колковую коробку я
сделал довольно просторной, с дополнительным «этажом» внутри. Сельские музыканты
до последнего времени использовали это помещение как хранилище для запасных
струн, канифоли и даже кошельков и сухого завтрака. Не исключено, что традиция
эта тянется еще со Средневековья.
Заказчик одобрил предлагаемую конструкцию, и я принялся за работу.
Даже имея подробные чертежи и уже работая с деревом, я все же продолжал читать
статьи о лирах и всматриваться в их изображения. Возможно, я боялся пропустить
какой-нибудь важный или просто любопытный штрих, деталь исторического прототипа.
Но, скорее всего, подсознательно не хотел выходить из этого состояния близкого
контакта с ними, почти осязаемого, в котором я пребывал эти несколько недель. Во
всяком случае, в каждый момент работы за верстаком я помнил, что я создаю
музыкальный инструмент Средневековья. А закончив работу поздно вечером,
укладывался в кровать, еще раз просматривая журналы и книги.
И вот в одном только что полученном журнале, уже почти закончив инструмент, я
наткнулся еще на одну средневековую лиру, которая меня сразу поразила! В этот
раз она была каменной...
***
Двух золотых марок, брошенных из повозки, хватило не только на доски сухого,
выдержанного дуба и новые струны, но и на несколько часов работы в мастерской,
предоставленных старику местным столяром. Старик сам навел рубанок, поправил
пилу. Ремесленные навыки никуда не делись за 30 лет, и уже к концу дня новая
виель была почти готова. Некоторые детали старик позаимствовал от старой лиры, и
та, уже почти рассыпавшись, казалось, сама рада была воплотиться в новом теле.
Колесо с кованой осью и кованой же фигурной консолью были установлены справа.
Старик лишь подточил поверхность колеса острой стамеской, убирая овальность, да
заменил уже треснувшую рукоятку. Слева же, позади колков, устроил просторное
помещение для всякой надобности.
Клавиши пришлось делать новые, старые были слишком коротки. От железных петель
для крышки пришлось пока отказаться — дорого. Но с этим можно подождать, а пока
два куска сыромятной кожи вполне смогут их заменить.
Было уже темно, когда старик проводил последнюю операцию — покрывал тонкий
дубовый корпус лиры расплавленным воском.
Старик смотрел на два инструмента, лежащие перед ним, со смешанным чувством.
Было до слез жалко старую лиру. Однако старушка прожила тяжелую жизнь и пришла к
неизбежному концу. Ей на смену пришел новый, совсем необычный по форме, но
гораздо более выносливый инструмент. Безусловно, надежный. Удобный. Звучный.
Легкий. Все это так. Но уж очень необычный. Не засмеют ли на дороге?.. «Виель?
Вот этот сундук?!»...
...Не засмеяли. Наоборот, диковинный инструмент привлекал больше внимания, а
когда старик начинал играть, то уже было не до формы виели. Инструмент выдавал
чистый сильный звук. Крышка, полностью прикрывая деку и колесо со струнами,
играла роль своеобразной сурдины, чуть смягчая и облагораживая тембр. К тому же
она приглушала скрипы колеса, трущегося о струны, щелканье клавиш при их
движении к струнам и обратно и потрескивания при касании струн. А когда музыкант
неожиданно для слушателей приоткрывал крышку и, как фокусник, извлекал откуда-то
из недр инструмента флейту, восторгу толпы не было предела!..
***
Нет, в том, что она была изваяна в камне, не было ничего удивительного. Кроме
гравюр, картин и гобеленов, история донесла до нас множество скульптурных
изображений музыкантов и, следовательно, инструментов. Обычай украшать каменные
капители и своды соборов и церквей фигурами музыкантов оставил особенно
интересные образцы — древние, но вместе с тем хорошо сохранившиеся (камень!),
весьма детальные и жизненно правдивые и (что особенно важно!) трехмерные
иллюстрации.
Удивительной оказалась сама форма колесной лиры. Резчик подсмотрел и запечатлел
на века музыкальный инструмент в форме... буквально посылочного ящика! Придумать
такое самому камнерезу было невозможно, настолько эта форма не соответствовала
архитектонике и конструкции лиры. Кроме того, выдумывать вообще не было
необходимости. Виель (а это была «виель-а-руа», французская колесная лира) в то
время была достаточно широко известна и распространена и походила либо на
скрипку, либо на виолу. Или лютню. Бывала и иных форм, но всегда состояла из
двух «этажей»: резонаторного корпуса (та самая «скрипка», «лютня» и т. д.) и
продолговатой коробки, установленной на этот корпус. Эти два этажа даже имели
различное назначение.
Корпус усиливал звук с помощью чуткой резонансной деки и замкнутого резонансного
объема воздуха, ограниченного декой, дном и стенками. В этом лира полностью
повторяла устройство практически любого европейского струнного инструмента. По
сути, она «вышла» из таких инструментов.
В то же время «второй этаж» — клавишная, или тангентная коробка представляла
собой место для техничного исполнения музыки. Ладонь музыканта удобно покоилась
на крышке коробки, а пальцы его находились прямо напротив клавиш. Кроме того, в
коробке прятались клавишный механизм, струны, колки натяжения и прочие
технические атрибуты.
Как все это помещалось и совмещалось в одном небольшом ящике? Об этом можно было
только гадать. Каменная лира была закрыта. А музыкант, ухмыляясь во всю ширину
своей уродливой физиономии, крепко вцепился в ручку, выступающую из сундучка, и
не собирался открывать его крышку.
Она открылась мне сама!..
Чем больше я смотрел на лиру, тем лучше понимал, каким могло — и должно! — было
быть ее устройство. И тем больше восхищался ее автором, нестандартностью его
мышления и лаконичной простотой его творения.
У этой лиры не было деки, вернее, не могло быть в стандартном, привычном ее
виде. Декой служило дно сундучка. Если весь корпус мог быть сделан из прочной
твердой древесины — например, клена или дуба — то дно непременно сделано из
тонкой резонансной ели.
Таким образом, весь сундучок является резонаторным корпусом. И внутри достаточно
места и для колеса, и для струн с клавишами, и для колков, и для необычной
высокой подставки (в виде буквы «Л»), передающей колебания струны от верха
колеса до самого дна и пропускающей ось колеса между своими ножками. Впрочем,
так ли уж необычна эта подставка? Такие же высокие подставки подобной
конфигурации мы видим сегодня в контрабасе, а тогда мастер мог встретить в
басовой виоле.
Поместив всю конструкцию в коробку, мастер решил сразу несколько трудных задач.
Во-первых, инструмент получился простой в изготовлении, недорогой. Во-вторых,
надежный, «всепогодный». В-третьих, намного звучнее стандартного инструмента
того же размера. В-четвертых, легкий в обслуживании и ремонте.
Мне захотелось немедленно сделать его реплику — проверить свои выводы. Одна лишь
мысль заставила помедлить. А как же мои исследования, поиски «классической»
конструкции средневековой лиры? Моя разработка типичного инструмента XIII—XIV
веков?
Я посмотрел на почти готовый и уже ставший мне близким инструмент и вдруг
осознал зыбкость своих рассуждений о его аутентичности. Возможно, эта лира
типична по отдельным своим деталям и характеристикам, однако нет никаких
документальных свидетельств того, что она действительно существовала вот в этом
своем виде.
Она могла быть тогда. Но была ли?
А лира-сундучок нетипична, это правда. Но она существовала!
И я сделал свою «каменную» лиру.
«Сундучок» дебютировал в сложных условиях. В августе наш небольшой ансамбль
старинной музыки принимал участие в фестивале ранней музыки в маленьком
эстонском городке Вильянди, который таким образом праздновал свое 700-летие.
Центральный и живописный эпизод фестиваля — променад — проход музицирующих
музыкантов по мощеным улочкам старинного города. На маленькой площади перед
выходом к ратуше — наш черед выступать. Мы спели тогда старинный украинский кант
под аккомпанемент «сундучка». Лира звучала практически в тех же местах, что и ее
давний родственник, в тех же «концертных» условиях — на улице, перед толпой,
разве что слушатели сейчас были грамотнее и взыскательнее.
Все было так, как я и предполагал. Чистый ясный звук мелодических струн, плотное
звучание бурдонов. После выступления нас кольцом окружили ребята. Просили
показать устройство, дать чертежи...
Моя «типичная» лира также вышла в свет и тоже имела успех. Любопытно, что и
дебютировала она с народной песней. Только не украинской, а белорусской.
Неожиданно мне позвонил Владимир Мулявин, руководитель ансамбля «Песняры»,
чрезвычайно популярного в те годы. Ансамбль гастролировал в Киеве. В программе
был новый хит — сценическое воплощение обрядов свадьбы в старой белорусской
деревне. И вот перед самым концертом ветхая колесная лира, на которой должен был
аккомпанировать себе солист ансамбля Леонид Борткевич, рассыпалась.
На ремонт ее мне понадобилось пару дней. А в тот вечер в громадном Дворце спорта
волшебный голос Борткевича звучал под лиру, которую я закончил буквально
несколько дней назад!
...Потом я потерял следы этих двух моих лир, сестер, родившихся почти
одновременно, и, как часто бывает, совсем не похожих друг на друга. Надеюсь, что
у них впереди интересная и длинная жизнь.
Музыкальные инструменты могут жить долго.
***
Старик закончил играть уже к сумеркам, когда ярмарка начала пустеть. Пересчитал
монеты, собрал снедь, поднесенную крестьянками. День оказался удачным. Ночь он
проведет под кровом и на мягкой соломе. Это очень кстати. Завтра чуть свет он
начнет длинный путь на север, в Саткруа, где уже двадцать лет идет строительство
самого величественного собора в Европе. Двести пятьдесят каменщиков, сто
семьдесят плотников, сотни кузнецов, медников, резчиков по дереву, стекольщиков
и прочего разного рабочего люда доставили сюда со всех концов этой и соседних
стран. Пока строится фундамент и возводятся гигантские стены, ремесленники
обустраивают свой быт, строят нехитрые жилища, мастерские и кузницы,
подготавливаясь к долгой рабочей зиме.
К весне должны быть готовы первые дюжины деревянных консолей-шаблонов для
каменных перекрытий. Камнерезы должны работать над колоннами с барельефами
шутов, менестрелей и горголей... Работать придется много и тяжело.
А старик знал: те, кто тяжело работают, щедро отдыхают!
***
Реконструкция исторического инструмента — это сложный процесс, требующий от
мастера, помимо технических навыков работы с древесиной или металлом, также
знания хотя бы элементарной теории музыки, истории, основных правил эстетики,
эргономики. Желательно обладать художественным вкусом, тактом, иметь склонность
к исследованиям, быть любопытным и, если хотите, эмоциональным.
Это только мое мнение, хотя я не раз встречал подтверждения этому, когда
скрытные по характеру, немногословные и даже хмурые музыкальные мастера высокого
класса не могли утаить теплого, даже нежного отношения к своим инструментам. Я
никогда не стеснялся «отцовского» чувства к инструментам, рожденным на моем
верстаке, понимая, что оно заставляет быть по-отцовски же требовательным к ним.
Но вот что интересно. Если по отношению к своим инструментам эти эмоции обычны и
повсеместны, исторический аналог, как правило, довольствуется только крохами
внимания со стороны мастеров. Ранний инструмент воспринимается как нечто данное,
не требующее ни похвалы, ни критики, ни проникновения в его сущность, историю
или обстоятельства его создания. Как памятник — застывший и пригодный только для
фотографирования или копирования.
Но ведь за каждым таким памятником стоит личность его создателя. Его задачи,
проблемы, мотивы. Его сомнения, пробы, решения. Его жизнь и творчество, наконец.
Стоит только подумать об этом — и уже чувствуешь волнение прикосновения к тому
времени, не к Истории, а к реальной земной жизни, скажем, 400 лет тому назад.
Один мой знакомый художник, страстный коллекционер и знаток мебели и сам,
кстати, первоклассный мастер по обработке дерева рассказывал мне увлеченно о
старом шкафе, который в кусках приобрел где-то и долго пытался реставрировать:
«Вижу, что эта доска должна стоять именно в этом пазу. Они даже проедены
(жучком-древоточцем) вместе. Но следы от гвоздей полностью соответствуют дверной
рамке. А дверь полностью собрана и совершенно оригинальна. А потом я понял!
Мастер ошибся сначала, он при сборке перепутал эту доску с другой. А потом
переделал. Понимаешь, он ошибся!» И столько восторга было в его последней фразе
оттого, что за этими потемневшими досками вдруг зыбко возник образ человека из
XVII века, который мыслил, ошибался, жил!
Почему данный исторический музыкальный инструмент такой, а не другой по своей
конструкции или декору? Какие обстоятельства и мысли послужили причиной его
создания? Кем был его автор? Кто был заказчиком? Дальше — больше: чем
руководствовался автор при изготовлении той или иной детали? Почему он выбрал то
или иное дерево? Наконец, как он работал, какими инструментами? Сколько стоило
ему изготовить инструмент, и за сколько он его продал? Интересно даже задаться
такими вопросами! А уж как любопытно было бы получить на них ответы!
И если письменных документов, отвечающих на подобные вопросы, крайне мало, то
существует по крайней мере один подлинный материальный источник, абсолютно
исторический и достоверный и уже потому заслуживающий пристального к себе
внимания. Это сам старый музыкальный инструмент. Всматривайтесь в него,
внедряйтесь, перевоплощайтесь в его подлинного автора. И может быть, какие-то
очертания его истории откроются вам…
Не знаю, кто, как и почему создал «каменную» лиру, какой веселый камнерез изваял
ее и при каких обстоятельствах увидел.
Может, все началось с обычного знойного полудня, когда старый лирник решил
отдохнуть под сенью тенистой ивы…
За дверью с чугунным львом
Таинственная быль
Сказать по правде, история эта простая. Как ни старайся, на детектив не тянет.
Ни «actions», ни нервных диалогов, ни завязки, ни развязки. Даже фабула какая-то
ленивая. Но что-то она для меня значит. Что-то важное ожидало меня за той дверью
из темного английского дуба с окольцованной мордой льва так далеко от дома в
самом центре «сердца Англии». Но прежде, чем постучать в эту дверь, давайте
оглянемся лет на двадцать пять назад, вспомним Киев...
В то время в Союзе интеллектуальные мальчики и девочки начали убегать от
соцкультуры в экзотику старинной музыки. Не только в Москве и Ленинграде, но и в
Киеве, Краснодаре, Томске и Омске кустиками пробивались ансамбли ранней музыки.
Самобытность их объяснялась использованием необычных, терпких по звучанию
старинных музыкальных инструментов. Началась жуткая погоня за блокфлейтами и
крумгорнами, виолами, спинетами и волынками...
На этом гребне взбалмошного спроса и взметнулась моя тогдашняя страсть —
изготовление ранних музыкальных инструментов. Мне повезло, я был первым и долгое
время единственным таким мастером в Союзе. Брался за все. Работал самозабвенно.
Простейшими инструментами (других, увы, не было) мог построить клавесин за две
недели, басовую флейту — за двое суток. А самым приятным отдыхом и наслаждением
было, упав на кровать, листать очередной чудом добытый каталог коллекции
инструментов или толстый оксфордский журнал ранней музыки.
Я читал их на ночь, как институтка — «Мадам Бовари», не отрываясь, исступленно.
Мне был знаком (и до сих пор узнаваем) почти каждый инструмент из всех известных
европейских и американских музеев: лондонского Виктории и Альберта,
нью-йоркского Метрополитен-музея, оксфордского и лейпцигского собраний. Я
воспринимал их как одну прекрасную коллекцию, сияющую где-то в вышине, свою
Мекку.
Молящийся в церкви не смотрит на иконы так, как я вглядывался в фотографии виолы
или лютни, видя не только двухмерное изображение, но заглядывая вглубь, за
видимый край, оценивая в миллиметрах ту или иную деталь или изгиб и по световым
рефлексам пытаясь определить характер отделки.
Помню, однажды удачная идея пришла ко мне. Вычитав о Товариществе мастеров
ранних инструментов, я послал их президенту в Англию пару только что
изготовленных инструментов с просьбой подарить мне в ответ несколько экземпляров
бюллетеней. Он не только прислал мне журналы за несколько лет, но и включил меня
в товарищество бесплатно! Я был счастлив...
Да, это был, пожалуй, лучший период моей жизни.
Что, однако, вспоминать! Скоро кооперативная волна смыла наносную экзотику, а
эмиграция вовсе заставила сменить профессию. Справедливости ради следует
сказать, что те годы оставили след не только в памяти. В ансамбле старинной
музыки я нашел себе жену. И то, что одна из наших дочерей, Аннушка, выбрала себе
профессию музыкального историка, мы тоже склонны объяснять отзвуком тех лет,
когда ее носили на репетиции — в животике.
Теперь самое время вернуться к началу этого рассказа — и в сегодняшние дни — в
Англию, в Оксфорд, куда мы с женой приехали повидать нашу Анку, студентку
колледжа Святой Екатерины. Неделя интенсивного общения с дочкой пролетела
быстро. Уже были посещены все концерты, представлены все друзья и профессора,
вытоптаны каменные улочки этого чудного готического городка. В последний перед
нашим отъездом вечер мои девочки решили напоследок попеть вместе на репетиции
хора. Я колебался, не спеша составить им компанию. Именно в этот момент Анка
показала мне дверь, за которой я мог их подождать: «...Тебе, наверное, будет
интересно это посмотреть».
С двери, такой же, как и множество на этой улице, сделанной из темных от времени
дубовых досок, смотрел на меня черный лев с кольцом в пасти. Рядом с ним —
табличка с надписью: «The Bate Collection of Musical Instruments».
Я заволновался. До закрытия выставки оставалось тридцать минут. А за дверьми,
как в пещере Аладдина, хранится тысяча избранных европейских инструментов всех
времен и народов — от Ренессанса и Барокко до наших дней.
Конечно, я знал эту коллекцию — один из пантеонов музыкального ремесла, которые
когда-то приводили меня в трепет и в каталоги которых нырял с головой.
Давным-давно...
В другой жизни.
В этой я часто гнал от себя воспоминания о тех годах. Точнее, ту часть из них,
что вызывала во мне острую ностальгию — не по месту, не по времени. Ностальгию
по восторгу созидания, по бессонным ночам, по вдохновению, по ТВОРЧЕСТВУ. Что
было, то было. Сейчас не до того. Есть другой мир, другая действительность,
другие заботы. Есть, в конце концов, биллы и моргеджи, бизнесы и клиенты. И
нечего разводить сопли и жить прошлым. Зачем пытаться дважды войти в ту же воду?
«Зачем?» — подумал я еще раз... И постучал в дверь.
...Что можно успеть за тридцать минут, когда у каждой витрины можно замереть на
час? Заставил себя пройти мимо одного шкафа, постоял немного у другого. А в
третьем вдруг увидел за стеклом чем-то страшно знакомый инструмент. Не успел еще
сообразить, почему я узнаю каждую деталь его, даже материал на ощупь, как взгляд
уже наткнулся на этикетку, на которой жирным шрифтом значилось имя мастера — мое
имя.
Я застыл, справляясь с гулом адреналина, вброшенного в голову. На миг время
искривилось. Я был одновременно здесь, в Оксфорде, и тут же — в Киеве, у
верстака. Этот абсолютно знакомый мне, почти родной инструмент в неожиданном
амплуа экспоната в музее — чужом и одновременно знакомом — как будто перекинул
мостик между «сегодня» и «давно», между реальностью и грезами.
И острая мысль: «Поздновато...» Раньше бы, лет двадцать назад знать о том, что
тебе оказана честь быть принятым в это безмолвное и бессмертное общество
Создателей, в шеренге которых твое имя через запятую — и произнести неловко.
Не справившись с эмоциями, я показал смотрителю свой инструмент, представился.
На шумок прибежала профессор — куратор музея. Мы вместе быстро определили, что
экспонаты (в коллекции оказалось два моих инструмента) были переданы в дар музею
тем самым председателем Товарищества мастеров, которому я когда-то их подарил.
Из музея я вынес преподнесенный каталог, механического соловья, купленного на
память и... ощущение чего-то важного и неуловимого, что произошло со мною только
что.
Вот, собственно, и вся история.
Будь я помоложе, я бы молодецки принялся анализировать с помощью математики.
Перемножал бы коэффициент вероятности того, что из тысячи студентов из Штатов в
Англию послали именно Анку, на коэффициент того, что она попала именно в Оксфорд
и именно в «ту самую» школу, а не в любой другой из тридцати восьми колледжей.
Затем попытался вычислить вероятность того, что инструменты были подарены именно
этому музею, и так далее, без конца. Пожалуй, запутался бы в нулях и в конце
концов провозгласил бы что-нибудь вроде: «Ни черта эта теория вероятностей не
работает, а что суждено, то суждено!»
Но я уже немолод, а как раз в том возрасте, когда склонен больше к
философствованию. Когда пытаешься в каждом событии угадать его скрытый смысл.
Что за знак был подан мне в виде этой случайной до неправдоподобия и потому еще
более неожиданной встречи — так далеко от дома и юности? Почему на моем пути
встретилась эта дверь?
Чтобы лишний раз взволновать и напомнить о том, что старался забыть?
Или указать на тщетность этих стараний?
Еще раз задуматься о спирали бытия и преемственности поколений?
А может, прочувствовать, как мал этот мир — и не только географией?
Или для того, чтобы захотелось всколыхнуть эту сегодняшнюю зеленую жижу рутины —
как будто тонкую, но скрывающую под собой болотную топь?
Не знаю.
А если б знал, то в этой были не осталось бы ничего таинственного.
Ходит конь по кругу
Монолог
1. Стружка, виржинал, наташа…
Мастерской называется заставленное станками, заваленное древесиной и засыпанное
стружкой помещение, жизнь без которого представляется немыслимой.
Стружки — это не мусор. Мусор — это... мусор, клочок бумаги, огрызок яблока. А
стружка — это...
Ш-ша! Ш-ша!..
Ш-ша! Ш-ша!..
Как же это объяснить?..
Стружка не выходит, не выползает из рубанка, а вылетает, выносится, как шелковая
лента из цилиндра фокусника, такая же легкая и полупрозрачная. С тихим шелестом,
с запахом леса и с некоторым особенным подаренным ощущением легкости,
удовлетворения, почти счастья. И этот звук! Что-то между шорохом и свистом из
репертуара леса. И еще — уверенность. Вперед — назад, десятая миллиметра. Еще
один взмах — еще десятка. Пять взмахов — надо сделать паузу, проверить
микрометром — нельзя перетончить край деки…
А за полчаса до этого — тоже фокус: заточка железки. По всей ширине она должна
быть прямой, как тетива лука. Но чуть ближе к краям я делаю чуть заметные
изгибы, уходящие внутрь щели рубанка. Так не будет никогда задиров от острых
краев железки. И еще маленький собственный секретик: уже отточенное и
заправленное на алмазном бруске лезвие коснуть обеими поверхностями к
полировочной шайбе. Чтоб зайчики заиграли на зеркале лезвия. Нигде такого не
вычитал, не встретил — сам придумал однажды. И с тех пор всю жизнь только так и
затачиваю. И только тогда — Ш-ша!.. — и десятка снята с нежной еловой деки
будущей лютни.
Ко мне пришли двое юношей, студенты, — будущий кинорежиссер и будущий
кинооператор. Для своей дипломной работы выбрали сюжет о создании музыкального
инструмента. С особенным воодушевлением снимали движения рубанка. Специально для
этих симпатичных ребят я установил на верстаке длинную сосновую доску. Чтобы
движения были размашистее и стружка вылетала бесконечной лентой. Сережа —
оператор — сидел на полу, разбросав длинные ноги, и старался постоянно держать в
фокусе рубанок…
Готового инструмента у меня в тот момент не нашлось, и мы всей съемочной группой
поехали в Ленинград снимать один из моих итальянских виржиналов, которым, как
нам стало известно, владела какая-то клавесинистка Наташа.
Дверь нам открыла ее мама, невысокая полная очень милая женщина. Провела нас в
гостиную, налила чаю. А потом вошла Наташа…
Все мы были не пацанами уже. Видели девушек симпатичных и не очень, красивых и
очень красивых. Но это была не просто красота. Это было что-то почти небесное,
отличающееся от ангела разве только милой вполне земной улыбкой, не сходящей со
светлого ее лика. Одним словом, это была Суламифь в свои семнадцать. Мы все
как-то смешались, стихли. Не то, чтобы застеснялись. Скорее почувствовали свою
непричастность к этой красоте, очарованию. Непричастность и всего остального —
этой мебели, подоконников, аппаратуры, вообще всей квартиры, и улиц, и серого
тяжелого неба. А она легко улыбалась, весело пила чай вместе с нами,
киношниками, и даже, кажется, была несколько смущена вниманием.
Виржинал мы отсняли быстро и тихо. Так же быстро сняли ленинградский антураж.
«Пройди по мосту от этих львов на камеру. И думай о чем-нибудь важном для себя…
А улыбаться не обязательно...»
Так же молча и в каком-то трансе мы провели время в поезде «Ленинград — Киев». А
будущий кинооператор Сережа лежал на верней полке купе и думал наверняка о том,
как хотел бы всю жизнь держать в фокусе Наташу, не отвлекаясь на всякие дурацкие
стружки и рубанки…
Да, так вот — о стружках.
2. О пенопласте и случайностях
Начал я свою рукотворную деятельность, работая макетчиком на Выставке передового
опыта и достижений в народном хозяйстве Украины, в просторечии — на ВЫПЕРДОСе. В
мои обязанности, в частности, входило вырезать из пенопласта буквы, красить их в
«золотой» цвет и наклеивать на красные стены павильонов в виде решений партии и
правительства. Вообще-то такой в высшей степени творческой работой занимался
отдельный работник, профессионал дядя Вася. Но пенопластовых решений партии и
правительства было, по-видимому, так много, что приходилось ему подсоблять.
Красить и выклеивать лозунги не представляло особой проблемы (хотя я разок и
сверзнулся с двухметровой платформы на полированный мраморный пол). Намного
опаснее, на самом деле, было резать буквы. Делалось это с помощью раскаленной
проволоки, и уютный дымок от горелого пенопласта содержал пары синильной
кислоты. Зная это, я старался выполнять работу на дворе, усаживаясь спиной к
ветру. Это немного примиряло меня с нудной работой — до той поры, пока не старый
еще дядя Вася вдруг не помер от кровоизлияния в мозг.
Я понял тогда, что можно любить материал, с которым работаешь, а можно и не
любить. Понял также, что пластмасса — не мой материал, не мой мир. Что я никогда
не буду получать удовольствие от работы макетчика, для которого ацетон,
дихлорэтан, цианокрилат и другие ядовитые даже на звук материалы обычны, как
мука и крахмал для повара.
Тогда же пришла мне и другая бесхитростная мысль: если одни материалы
укорачивают жизнь, то иные, наверное, могут ее удлинить.
Сейчас я уверен в том, что древесина сама заботится о здоровье плотника, столяра
и краснодеревщика. Просто искренне верю в это, не утруждая себя и других
аргументами и доказательствами в виде, скажем, наличия фитонцидов в смоле пихты,
или преклонного возраста Страдивари, продолжавшего держать рубанок и в девяносто
лет. Просто знаю, и все.
И наверное, как подтверждение этому именно в тот момент и прозвучал вопрос,
обращенный ко мне другом детства. Вопрос, который на десятки лет определит мою
дальнейшую жизнь — творческую и личную. «А почему бы тебе не заняться
музыкальными инструментами?» — спросил меня Витька, в будущем — первый кларнет
оперного театра.
Если бы этот вопрос не был задан, или даже если бы он прозвучал не в момент
растерянности на распутье, а раньше или позже, когда я, скажем, мог быть уже
увлечен чем-то иным, я лишился бы радости вдохновения, поиска и находок, встреч
с интереснейшими людьми и не менее интересными предметами и еще многого другого,
что наполняло мое существование все последующие годы до сих пор.
Так, может быть, это не было случайностью? Вообще госпожа Случайность не так
проста, как кажется. Она нередко ставила меня в тупик, вывести из которого
логика оказывалась бессильной.
Я давно уже подметил свою необъяснимую способность находить самые разные
предметы в самых странных местах именно в тот момент, когда я испытывал в них
необходимость.
Я находил кусок проволоки в придорожной траве в момент, когда озирался в
растерянности, не зная, чем подвязать упавший вдруг глушитель.
Будучи в дальней командировке, я метался по паркингу в поисках чего-нибудь, что
помогло бы мне укрепить механику корейского пианино, одна из гаек которого (с
метрической резьбой — редкость в Америке!) оказалась дефектной. Метался недолго:
гайка с резьбой М6 в одиночестве лежала в нескольких футах от машины, просто на
асфальте. Таких примеров — множество. Но один случай до сих пор вызывает
шевеление волос на голове, как в тот миг, когда это произошло.
В то время я конструировал волынки, надо сказать, довольно сложный и капризный
инструмент. В классической народной волынке музыкант постоянно вдувает воздух в
большой кожаный мешок, который находится у него подмышкой. Необходимое давление
воздуха в мешке создает локоть исполнителя: он надавливает на мешок, постоянно
контролируя это усилие. А музыкант знай себе поддувает воздух по мере того, как
тот уходит в звучащие трубки. Сказать это легче, чем делать. К тому времени,
когда произошла эта незатейливая история, я сделал уже несколько инструментов. И
так «надулся» в них, что грудная клетка болела. Для развития легких до уровня
музыканта шотландской гвардии или гуцула, играющего на карпатской свадьбе,
потребовались бы годы. А мне нужно срочно сделать еще одну. Я шел по узким
улочкам Подола и рассуждал сам с собой о том, как выйти из этого положения.
Собственно, выход напрашивался и даже подкупал новизной. В семействе волынок
есть такие инструменты, дуть в которые не нужно вообще. Воздух накачивается
небольшим мехом наподобие каминного. Мех этот удерживается подмышкой, а кожаный
мешок, соответственно, перемещается на грудь музыканта. И уже локоть другой руки
контролирует давление внутри мешка.
Я представил себе координацию движений исполнителя. Значит, кроме того, что
пальцы обеих рук играют на мелодической трубке, открывая и закрывая
аппликатурные отверстия, правое предплечье ритмически и монотонно качает мех, а
левый локоть гибко реагирует на интонацию, сильнее или слабее прижимая мешок к
корпусу. Сумею ли справиться со столь сложной координацией?
«Попробую», — подумал я. Делать все равно нечего. Дуть просто не могу. А с
координацией справлюсь. Играет же органист в церкви двумя руками на разных
клавиатурах, двумя ногами на ножной клавиатуре, смотрит в ноты, переключает
регистры да еще поглядывает в зеркало на церемонию, чтобы вовремя остановиться
или замедлить темп игры.
Тут другие могут быть проблемы, продолжал рассуждать я, завернув за угол дома.
Например, как исполнить рукав, по которому воздух из меха поступает в мешок. Он
должен быть гибким и не перегибаться в складки. Идеально — гофрированная трубка.
Как от пылесоса. Нет, пылесосная недостаточно гибкая. Да и трудно работать с
ней, стальная пружина внутри. Это что-то такое... Скорее как у противогаза. Да,
именно противогазная трубка! Она гибкая, эластичная, и длина подходящая. Вопрос:
где ее взять в Киеве? Что я об этом знаю: ГТО, военная кафедра, учебная тревога,
военная часть... Вряд ли там одарят...
Так рассуждая, я завернул еще за один угол и сразу увидел его лежащим на
мостовой рядом с тротуаром, по которому я шел. Это был резиновый гофрированный
шланг от противогаза в приличном состоянии. Впоследствии мне пришлось только
помыть его перед тем, как использовать для волынки. Маски и угольной коробки при
нем не было. И это было понятно: мне они не были нужны. Непонятным осталось все
остальное...
3. О коже, кладах и генах
Опять я отвлекся... Так вот, стружки, «свой» материал...
Я, пожалуй, забыл упомянуть еще один материал, который люблю. Это кожа. Дубленая
или сыромятная, хромовая, толстая седельная или лайка одинаково приятны в
работе. Я люблю их на ощупь, на запах. Мне нравится шить кожу, делать резьбу и
тиснение, печатать на ней золотом, плести из тонких кожаных жгутов. Я с
удовольствием делал обложки для книг, ножны для кинжала, маски и даже небольшие
скульптуры. Люблю носить кожаные куртки, которых у меня много.
Возможно, это наследственное...
Тут надо бы вернуться на много лет назад, в тот день, когда мой младший брат
нашел на антресолях клад.
«Я нашел клад!» — встретил меня у дверей нашей более чем скромной двухкомнатной
«хрущёвки» Лешка (шепотом, глаза широко раскрыты, чуб взъерошен...). Пытаясь
сохранить серьезное выражение лица, я проследовал на кухню, залез на обеденный
столик, заглянул в узкий проем наддверных антресолей.
В глубине, за разным хламом, ждущим очередной чистки, в углу стопкой друг на
друге лежали три пакета. Одна из оберток порвана, и из газетной бреши вывалились
золотые цепи и цепочки с какими-то брелоками, луковицами часов, нанизанными
кольцами и перстнями...
Я с трудом унял внезапную дрожь в ногах, медленно слез со стола, взял братишку
за плечо и, глядя прямо в его испуганные голубые глаза, медленно произнес:
— Лешка, я не знаю, что это и откуда. Может быть, узнаю со временем. А пока
забудь это, как сон, и не дай Бог тебе кому-нибудь проговориться!..
Наверное, это прозвучало очень убедительно, а может, двенадцатилетний пацан и
сам понял серьезность и опасность своей находки, только — надо отдать ему
должное — он в течение многих лет после того не задавал никаких вопросов, как
будто действительно забыл.
Неделю я мучился в страхе и сомнениях. Держать (правильнее даже — укрывать) в
своем доме золото в таких немыслимых количествах в то время считалось
преступлением. Государство неимущих рабочих и крестьян априори считало богатство
рядовых его членов награбленным и подлежащим немедленному изъятию с самыми
жесткими репрессиями.
И за вечерним чаем я наконец дрожащим голосом обратился к своим родителям —
кристально честным и нуждавшимся порой в самом необходимом:
— Я случайно обнаружил ЭТО, — я указал на антресоли. — Знаю, что это не ваше, и
вообще вы здесь не можете быть никак замешаны, но... что это и откуда, не могу
себе представить...
Первым понял меня папа и кинул недоумевающей маме: «Ну, это Моисеевы вещи...»
Ларчик открывался просто.
Был у папы двоюродный брат Моисей. Патриарх семьи, он, казалось, взял не только
имя у библейского пророка, но и внешность, и стать его: мощный череп, властный
характер и рассудительный ум. В 1920-е годы он организовал производство, магазин
и выжал из них все, на что способна была ленинская новая экономическая политика,
для чего, собственно, и была она создана.
Дальновидности и способностей Моисея хватило на то, чтобы вовремя остановиться,
перевести все сбережения в благородный металл и сохранить его в течение всей
дальнейшей жизни, избежав диких последствий НЭПа, довоенных, военных и
послевоенных чисток и репрессий, алчности ЧК, НКВД и КГБ...
О том, чтобы пользоваться этим богатством, не могло быть, естественно, и речи.
Но даже хранить его было нелегко и было бы вообще невозможно без помощи
родственников. Моисей разделил свое золото на небольшие порции и раздал самым
доверенным членам семьи. Кто откажет Моисею в небольшом одолжении?
Так пакеты попали к моему отцу. Пока мы жили в маленьком, еле отстроенном домике
на бывших околицах Киева, пакеты лежали в дырявом сарае под слоем угля, которым
мы топили печку. А когда домик затопило сточными водами после особенно сильного
ливня, они переехали вместе с нами в новую квартиру.
Где и нашел их Лешка.
В тот момент, когда папа рассказывал мне эту историю, пакетов, впрочем, на
антресолях уже не было. Буквально два-три дня назад в «Вечернем Киеве» появилась
статья об очередном «разоблачении подпольных миллионеров» с фотографиями груды
золотых вещей, «изъятых при обыске». Эти снимки воздействовали на читателей, как
фото эксгумированных жертв изнасилований, и должны были инспирировать
негодование населения и приветствование ими суровых приговоров.
Выдержать это уже не хватало сил, и отец, очень извиняясь, вернул пакеты Моисею.
Как вовремя он это сделал!
Через несколько месяцев Моисея взяли.
Продержали его недолго. Выпотрошив полностью (у дочери забрали даже обручальное
кольцо, которое тот подарил ей к свадьбе тридцать лет назад), начальники сочли
возможным (и «экономически выгодным» для себя) отпустить его восвояси.
Мы поехали навестить Моисея. Что мы увидели! Вместо властного и гордого
библейского пророка в кресле сидел дряхлый дрожащий старик. Он все время
испуганно озирался и большей частью молчал. Но одно откровение все же прошептал
отцу на ухо: «Они били меня резиновыми палками по голове...»
Били, по-видимому, сильно и со знанием дела: меньше, чем через месяц старика не
стало.
«За проявленные недюжинные организаторские способности Моисея Заярузного, за его
участие в экономическом укреплении молодого Советского государства, за отказ от
использования накопленных заработанных средств на повышение личного
благосостояния и за вечный страх, сопутствующий хранению этого бесполезного
богатства, наградить вышеозначенного гражданина социалистического общества
ударами палок до смерти»...
К чему это я вспомнил? Кожа... Забыл упомянуть о том, что миллионы моего
родственника были заработаны им на ниве кожевенной промышленности. На Крещатике,
главной улице Киева, стоял большой обувной магазин. Многие члены большой семьи
участвовали в процессе изготовления первоклассной обуви, которая большей частью
шилась тогда на заказ. Отец рассказывал, как мой дед с утра до вечера сидел на
низком стульчике и отточенным, как бритва, остроконечным ножом вырезал кожаные
заготовки.
Не на генном ли уровне — моя любовь к коже?
Во времена моих метаний между бесполезным и нелюбимым институтом и желанием
создавать что-то своими руками я увлекся кожей. С книгами я работать уже умел и
скоро сидел в читальном зале с кипой литературы по обработке кожи. Особенно
большие надежды возлагал на тоненькую брошюру 1926 года издания «Из библиотечки
ремесленника-кустаря».
Книжку я отложил через минуту после слов: «Вройте посреди двора бревно с таким
расчетом, чтобы конь свободно мог ходить вокруг него...»
Я понял, что сыромятную кожу я не осилю, и решил делать дубленую. Для этого не
требовалось ни двора, ни кола, а домашний скот нужен был только в виде снятой
шкуры.
В подземных катакомбах Бессарабского рынка мне быстро удалось купить у мужика
небольшую черную шкуру теленка. Ее следовало немедленно законсервировать солью.
Операция была несложная и требовала всего пару квадратных метров площади. Тут же
на Бессарабке жил мой друг Аркадий со своей интеллигентной мамой, и я решил
воспользоваться их широким балконом.
Арик как раз был один, и тем проще было ему дать разрешение на столь
неэстетичное и антисанитарное действо, которое, безусловно, было бы неприятно
маме, будь она дома. Он открыл балкон и, еще раз убедившись, что «ну, десять
минут от силы — и исчезну!», убежал по своим делам.
Дело действительно было грязным, и только сильная мотивация и предвкушение в
конце концов получить глянцевую кожу теплого красно-коричневого цвета с ароматом
хвои позволило мне быстро справиться с задачей. Я отрезал от шкуры остатки
мездры и другие ненужные части, щедро посыпал внутри крупной солью, плотно
свернул шкуру, аккуратно уложил в пластиковый мешок и, окрыленный первым
успехом, покинул квартиру Арика...
...По рассеянности оставив у двери завернутые в газеты ненужные «детали»,
предназначенные для мусорного ведра.
Впоследствии меня всегда интересовало, что подумала Полина Исааковна, школьная
учительница украинского языка и литературы, и какова была ее реакция, когда,
обнаружив аккуратный газетный пакетик у двери («Аричек забыл завтрак?») и,
развернув его, она увидела черный длинный окровавленный хвост с кисточкой на
конце, покрытый репейником и кусками засохшего навоза?..
А я в это время уже направлялся в небольшой районный центр Васильков за
дубильным экстрактом.
Для тех, кто не знает этого или просто интересуется «очевидным-невероятным», —
кожа в Советском Союзе принадлежала к военной номенклатуре. На практике это
означало, что купить ее официально было невозможно.
Как и многим другим загадкам Страны Советов, однозначного объяснения этому нет.
Может быть, кожа была «военной» из-за офицерских сапог, ремней и портупей. А
возможно, она разделила участь многих призванных в армию товаров, которых на
«гражданку» просто не хватало.
Так или иначе, Васильковский кожевенный завод имел большие железные ворота и
вохровца с синими петличками, сторожившего узкий турникет.
Впрочем, сквозь турникет никто не проходил, так как ворота всегда были
нараспашку. Бессмысленность как ворот, так и сторожа стала особенно очевидной,
когда оказалось, что цеха завода находились по одну сторону ворот, а дирекция —
по другую, на улице. Понятно, никакой турникет не выдержал бы этой оживленно
снующей туда-сюда толпы со счетами, накладными, ящиками и мешками.
И я был в этой толпе. Проносился мимо вохровца так часто, что уже по-приятельски
стал кивать ему, подмигивать и перекидываться несложными междометиями.
Мне сильно повезло в тот день. Я, частный элемент, в принципе не существующий
для государственной индустрии, сумел купить за наличный расчет у советского
предприятия материал, к тому же из военной номенклатуры! В конце дня я гордо
проходил мимо охранника с половиной мешка первоклассного елового дубильного
экстракта...
— И оцэ всэ? — пожал плечами страж. — И ты оце вэсь дэнь бигав туды-сюды за
пив-мишка? Дав бы мэни бутылку, я б тоби цилый мишок вынис...
Для полной уверенности в успехе предстоящей операции я посетил еще одно
серьезное предприятие — лабораторию обработки кожи Киевского кожзавода. Завлаб,
кандидат технических наук, не старый еще, с умными, но уже усталыми глазами
человек, терпеливо выслушал мои вопросы по технологии дубления, помолчал
немного, затем пожал плечами и сказал:
— Зачем вам все это надо, молодой человек? Это совсем не просто. Вся лаборатория
занимается этими вопросами уже много лет, а кожа по-прежнему ведет себя капризно
и непредсказуемо.
Затем, понизив голос, добавил:
— Если хотите, я могу вам помочь купить готовую кожу. Сведу вас с мастером, он
недорого попросит.
Я подумал самую малость, вспомнил дядю Моисея, статьи в «Вечёрке», резиновые
палки — и вежливо, но твердо отказался. Меня все же тревожили семейные гены,
ответственные за судьбу потомков...
— Ну, как хотите, — вздохнул завлаб. — Когда закончите, покажите, что у вас
получилось.
Надо сказать, что дальнейшая работа (в ванной комнате родителей, всю жизнь
терпящих мои эксперименты и поиски смысла жизни) принесла неплохие результаты.
Один кусочек пружинистой коричневой дубленой кожи, вынесший всю тяжесть моей
одомашненной технологии, был представлен завлабу.
Тот помял его в руках, посмотрел на меня... и предложил место в лаборатории.
— Много не могу платить, к сожалению. Лаборант получает здесь 70 рублей, но
работа интересная... А то здесь никому ничего не нужно! — вдруг с тоской почти
воскликнул он.
...Одна из моих кожаных масок до сих пор висит у нас в кухне.
4. Мои мастерские
Между прочим, кроме балкона Аркадия и ванной родителей, у меня были по-разному
не менее интересные мастерские.
Мастерская — мечта всякого художника и ремесленника. В условиях развитого
cоциализма — почти несбыточная. Я спросил как-то совета у старого опытного
художника-живописца, члена Союза художников Украины, где бы мне снять мастерскую
года на три.
— Три года? — бархатным басом захохотал тот. — Тут никто не мыслит такими
категориями! Максимум — на год, и то дай Бог...
Жизнь грустно подтвердила его правоту. За 17 лет моего ремесленного бытия в
«совке» я поменял 12 рабочих помещений. Каждый переезд был более громоздким и
хлопотным: росло количество станков, инструментов и материала, хозяйства,
которое постепенно становилось уже частью меня самого.
Да и что за помещения это были! Большинство не заслуживало высокого звания
Мастерской. Ну вот, например, одно из них...
...Управдом мутно глянул на меня, дохнул алкогольным перегаром.
— Есть у меня хорошая тебе мастерская. Будешь счастлив! Делай себе свои гитары.
И меня не забудь... Давно мечтаю о хорошей цыганской гитаре. «Две-е гита-ары
за-а стеной!..»
Как раз в это время я закончил реставрировать замечательный инструмент — русскую
семиструнку начала века с перламутровой инкрустацией, хорошего дерева с
патентованной нейзильберовой механикой, способную украсить любую коллекцию
гитар. Вздохнув про себя, я наделил ее функцией взятки: работать в спальне
родителей было уже практически невозможно.
Мастерская оказалась в подвале и по размерам не превышала спаленку. К тому же в
форточку (не называть же это окном) время от времени залетали с соседней мусорки
толстые зеленые мухи, от коих с детства передергивало. Но выбирать не
приходилось. Однако были и положительные стороны в виде, например, рукомойника и
туалета.
Вот этот туалет и испортил и без того невеселый праздник.
Работа над двумя лютнями уже подходила к концу. Корпуса из волнистого клена были
готовы соединиться с нежными деками из карпатской ели, которые лежали рядом,
тоже полностью собранные, легкие до невесомости. Приклейку дек как очень
ответственную операцию и для меня торжественное действо я отнес на новый день.
Однако на следующее утро мастерская встретила меня оглушающим запахом
человеческих экскрементов, густым туманом аммиачных паров и зудом сотни
изумрудных мух, беснующихся от неслыханной удачи. Ночью произошло извержение
Вирзувия*.
«Лавой» был залит весь пол. Самое ужасное ожидало меня на верстаке. Лютни не
выдержали дикого надругательства, все детали расклеились, покоробились и
представляли собой мусор...
Но более всего мне в этой истории жалко ту старинную гитару со вспышками
красно-зеленого новозеландского перламутра. Впрочем, она могла быть не самой
большой взяткой в моей жизни.
Как-то я устроился работать в мастерские Музфонда УССР. Надо сказать, условия
работы там были прекрасными. Светлая просторная комната, относительная свобода
дисциплины и полная — творчества. Там я построил много интересных инструментов
по заказу разных областных филармоний и художественных коллективов: клавесины,
лютни, ренессансные барабаны и деревянные духовые...
Во многом мне содействовал тогдашний директор по фамилии, скажем, Худенко. Как я
полагал, бескорыстно. Однажды он вызвал меня в кабинет и с застенчивой улыбкой
Альхена попросил сделать ему «для сына небольшой комплект старинных
инструментов, так, не спеша, потихоньку — клавесин, лютню...» (далее
перечислялись все инструменты из моей номенклатуры).
— А на чем играет ваш сын, какая у него музыкальная специализация? —
поинтересовался я.
— Да нет... Ему еще три годика... Но он же вырастет!
Слава Богу, этим грандиозным планам не дано было свершиться. Скоро Худенко
уволили, а вскоре после этого мастерскую закрыли. Это была моя седьмая... Или
девятая?
По приезду в Штаты великая американская мечта о собственном доме
трансформировалась у меня в не менее значимую мечту о собственной мастерской.
Можете себе представить, с каким чувством я вошел впервые в свою новую
просторную... не мастерскую — залу. Я строил ее сам с утра до вечера в течение
шести месяцев. И вот она стоит передо мной во всем великолепии своей
пятиметровой высоты, с парком прекрасных «импортных» (американских!) станков, с
превосходными материалами, которые не нужно ни красть, ни «доставать», а только
заказать по телефону, и с легкой стружкой на полу площадью в тысячу квадратных
футов.
Можно было бы сказать и «в сто квадратных метров», но... в футах она все-таки
больше.
И я — счастлив!
Однако что-то меня сегодня развезло.
Разболтался.
Пойду, поработаю...
|
|
 |
|
 |
|