|
|
|
|
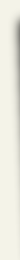 |

|
|
|
Оятская быль
К моим сегодняшним преклонным годам ко мне все чаще
стали приходить воспоминания о таком далеком детстве, о годах учебы, о
родительском доме.
Родился я в Оятском районе Ленинградской области.
После Великой Отечественной войны район укрупнили и назвали Лодейнопольским.
Аксёново, Хмелезеро, Вонозеро, Мутнозеро, Красный Бор, Тервеничи, Околок,
Алёховщина, Лодейное Поле — вот места, где я жил до 17 лет. От города Лодейное
Поле до Ленинграда — 240 километров. Здесь, в Лодейном Поле, на берегах Свири,
начинался Российский флот. Верфь на Свири появилась раньше на один год, чем в
Петербурге. Первый крупный военный корабль под российским флагом вел к будущей
столице сам Пётр. Шлюп «Мирный» сошел с Лодейнопольской верфи и под
командованием знаменитого мореплавателя Лазарева направился к неизвестной тогда
Антарктиде. На Лодейнопольской верфи был построен и шлюп «Диана», который под
командованием капитана Головнина обошел земной шар.
Ленинградские журналисты М. Холмов и В. Ивачёв писали
об Оятском крае:
«Когда попадаешь за Алёховщину, то не сразу поверишь,
что ты на ленинградской земле. Кругом Русь, словно сошедшая с картин Васнецова,
спрятанная в строках Есенина, Блока.
Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога!
Этот край богат россыпями доброй человеческой души.
Бесстрашный и добрый живет здесь народ. Жизнь давно научила его и ковать железо,
и строить суда, и бороться с ветрами — написано еще в стародавнем Олонецком
сборнике».
Мне до сих пор снятся наши холмы, леса, поля, ручьи,
речки, озера. Все это чистое, не опоганенное цивилизацией.
С 1957 года я живу на Урале, в Екатеринбурге, где
тоже красивейшая природа, но ее цивилизация не пощадила — здесь уже нет чистого
воздуха, воды — и люди болеют и телом, и душой.
После разгула отечественного дикого капитализма я
невольно стал вспоминать ушедшее время, и получается, что нам, простым людям,
несмотря на все трудности, жилось-то лучше. Я — из простого народа, мои родители
— крестьяне, затем стали колхозниками. И вот, выйдя на пенсию, я решился на свои
воспоминания, стал писать. Проработал я, не считая учебных лет, пятьдесят четыре
с половиной года, причем полвека на одном предприятии.
Двойка за поведение
В школе я сидел на одной парте с другом Колькой Зайцевым. У Кольки был взрослый
двадцатилетний брат Виктор. Наша учительница была примерно такого же возраста.
Мы с Колькой частенько видели, как они по вечерам ходили вместе, или, как у нас
в деревне говорили — гуляли.
Виктор, как рассказывал Колька, иногда по ночам мочился в постель, поэтому мы
его дразнили «ссюном», и он очень сердился. Я уже умел читать и в первом классе
чувствовал себя свободно и так же свободно вел себя на уроках. Учительница даже
выгоняла из класса.
И как-то раз, уже в конце учебного года, она сказала: «Выходи из класса и завтра
приходи с отцом!» Я встал и сказал: «А ты с Витькой-ссюном гуляешь». В деревне в
то время все говорили «ты». Учительница заплакала, я тоже заревел и ушел из
класса. Дома я никому ничего не сказал, а на следующий день пришел в школу,
конечно, без отца.
Через неделю занятия закончились, меня не тревожили, и я думал, что все
обошлось. Был июнь 1941 года. Отца переводили на другое место работы —
председателем Тервенического сельского Совета Оятского района Ленинградской
области. По этой причине наша семья собиралась переезжать в село Тервеничи, там
была неполная средняя школа, где мне предстояло учиться. Поэтому отец отправил
меня за аттестатом.
Я получил аттестат и стал его изучать — оценки были 4 и 5, а в конце листа
двойка за поведение. Я был растерян и не знал, что делать. Ходил, ходил по улице
и решил аттестат разорвать, клочки выбросить в подвальное окошко нежилого дома.
Разорвал, выбросил и пошел домой. Дома, в суматохе переезда, никто не спросил
про аттестат.
Мы всей семьей переехали в деревню Околок, что в одном километре от Тервеничей.
Надо было оформляться в новую школу, во второй класс — а для этого требовался
аттестат. Я сказал, что потерял его в дороге. Отец сходил в школу и принес новый
аттестат, и тут все выяснилось. Меня никто не ругал, и я до сих пор не знаю
почему, думаю, что из-за начавшейся войны.
Однако мне до сих пор стыдно за мой ответ учительнице.
Самовар
Все мои старые друзья остались в селе Хмелезеро, а новых в Околке я еще не
заимел. С ребятами я долго не мог «притереться», мы часто ссорились и даже
дрались. Меня дразнили: «Хмель — озеро!», я сам не знаю почему, сердился и тоже
как-нибудь обзывал.
Так как реагировал на обзывание я очень быстро, то меня стали обзывать не
«хмель-озеро», а «самоваром», намекая, что я очень быстро закипаю от обиды.
Прошло месяца два, мы подружились, ссорились уже редко, но прозвище «самовар»
шло за мной до окончания школы, хотя и произносили его нечасто.
Ловьяны
В двух километрах от Околка протекала речка Шадьма, которую в деревне все
называли ручьем, потому что в самом узком месте ее можно было просто
перепрыгнуть. В самом широком месте она достигала четырех метров. В речке были
всякие омуты — от одного до четырех метров глубины. И везде водилась форель,
которую у нас почему-то называли ловьянами.
В глубоких омутах форель ловилась только в сильный дождь, и мы объясняли это
тем, что она очень осторожна и пуглива. К рыбалке готовились заранее — копали
банку крупных дождевых червей, снаряжали удочку большим крючком, она была без
поплавка, с коротким удилищем. И ждали.
И как только небо закрывали грозовые тучи, мы с ребятами хватали наши рыболовные
снасти и мчались на Шадьму, к омутам. Насаживали на крючок два-три червяка,
закидывали удочку в омут и водили туда-сюда. По воде начинали барабанить крупные
капли дождя, и тут же форель хватала крючок с наживкой, да так, что было трудно
удержать удилище в руках. Пока шел ливень, мы вылавливали до шести рыбин, но как
только сильный дождь заканчивался, клёв прекращался.
Промокшие с ног до головы, мы радостные мчались к дому.
Был и другой способ ловли — в хорошую летнюю погоду. Брали с собой лопаты,
ведра, обычно по ведру на брата. Шли на Шадьму, находили неширокое место, до
полутора метров шириной, но с поднутрениями и корягами у берега — в них обычно
форель и пряталась. Затем строили запруду, то есть засыпали ручей спереди и
сзади по течению длиной до двух метров. Потом через заднюю стенку спускали воду,
остатки воды вычерпывали ведрами, в грязной жиже руками ловили форель и
выбрасывали на берег. Все это надо было делать очень быстро, так как вода
прибывала и грозила разрушить переднюю стенку. Обычно мы управлялись за полчаса,
добывая по пять штук рыбин.
Наверное, свое местное название — ловьяны — форель и получила из-за этого
способа ловли руками.
Озеро
В Околке наш дом стоял на самой горе. Из окна виднелось озеро, которое с трех
сторон окружали дома, а с четвертой — раскинулось болото с клюквой.
Озеро было круглой формы, приблизительно 150 метров в диаметре, наполненное
всегда чистой водой. Старики говорили, что когда-то из озера вытекал ручей и
впадал в Шадьму и что на дне бьют ключи. Уже на небольшой глубине, даже в самую
жаркую пору вода струила холод. От берегов метров на пять-десять тянулись по
воде там и сям подмости — с них полоскали белье, черпали воду, а летом мы с них
прыгали, когда купались.
Была и купальня, но берег круто уходил вниз, и уже в пяти метрах от берега вода
покрывала нас с головой. Мы с ребятами устраивали соревнования — кто быстрее
переплывет озеро туда и обратно. Однако обычно плыли в одну сторону, а обратно
бежали вокруг озера.
Как-то в гости к нашим соседям из Ленинграда приехали мать с сыном Романом.
Роман был старше меня на год. Я закончил пятый класс, а он шестой. Мы
подружились, вместе ходили в лес за грибами и ягодами, на рыбалку, купались.
Однажды Роман предложил переплыть озеро туда и обратно на спор — кто проиграет,
тот отдает свой перочинный нож. Свидетели — наши друзья, братья Королевы, Валя и
Боря. Поплыли. Туда Роман приплыл первым, опередив меня примерно на пять метров.
Я развернулся у мостков и стал его догонять. Я не спешил, плыл то одним боком,
то другим и на середине озера его обогнал. К берегу я приплыл первым, обогнав
его на несколько метров. Его красивый ленинградский нож стал моим.
Рыбы в озере не было с финской войны. В финскую у нас в Ленинградской области
были очень сильные морозы — до 45 градусов ниже нуля, и в Околке вымерзли сады,
а в озере погибла рыба. Лед был такой толстый, даже у берегов, что не пропускал
воздух в воду, рыба устремлялась в проруби, и ее черпали ведрами. Рыба
задохнулась, снова завести ее не могут до сих пор. Я сам несколько лет подряд
безуспешно запускал в озеро окуней и плотиц, выловленных в Тервеническом озере.
В 1942—1943 годах над озером, раз в неделю, в основном в темное время суток, мы
наблюдали фейерверки — это были разрывы зенитных снарядов.
В 15 километрах от Околка находилось районное село Алёховщина, в центре которого
через реку Оять был перекинут большой деревянный мост. Его немцы и бомбили раз в
неделю, но так и не могли разбомбить, наши зенитчики не пропустили немецкие
самолеты к мосту, хотя в окрестностях моста бомб упало очень много. Наблюдая
фейерверк, мы уже знали — немцы опять над Алёховщиной. Там был штаб 7-й армии, и
часть бомб, очевидно, предназначалась ему.
Трудодень
Когда началась война, все ребятишки уже с первого класса работали в колхозе.
Зимой мы собирали золу для колхоза, носили воду и поили лошадей на конюшне. Во
время летних каникул работали ежедневно. Каждому пацану давалась на лето лошадь,
за которой он ухаживал и на которой боронил, возил навоз, сено, дрова, ездил за
почтой в районное село Алёховщина.
У меня за время войны было три лошади: Нева, Грозный, Умник. На Неве я заработал
первый трудодень.
Между Околком и Тервеничами раскинулось поле в несколько гектаров. После
вспашки, перед посевом ржи, надо было его взборонить. На лошадь надевали хомут с
постромками, которые привязывали к вальку бороны, лошадь тащила борону, борона
рыхлила землю. Размеры бороны — полтора на полтора метра. Взрослый человек или
старшеклассник с помощью вожжей управлял лошадью и ходил вслед за бороной по
полю.
Мне тогда еще не было 8 лет, поэтому меня посадили на лошадь, дали в руки
поводья и сказали: «Борони!» Было раннее утро. Весь день я не слезал с лошади и
взборонил все поле. Вечером пришел бригадир, дядя Ваня Кольцов, увидел мое
большое старание и закричал: «Ты что, так и не слезал с лошади, ты ведь ее мог
загнать!» Я чуть не заплакал и пролепетал: «А как я бы сел на нее обратно, ведь
ты велел взборонить все поле».
Я спросил дядю Ваню: «Сколько я заработал трудодней?» Дядя Ваня ответил:
«Полтора трудодня, но половину трудодня я убираю за то, что ты чуть не загнал
лошадь!»
Приехав домой, снял с Невы хомут, взял цепь, привязал одним концом к узде и,
набросив цепь на шею Невы, повел ее к изгороди. Ездили мы без седел и вскочить
на лошадь самостоятельно с земли не могли, а потому использовали изгороди. Сев
на Неву, поехал на пожню, где уже отросла новая трава. На пожне слез с Невы,
снял цепь с ее шеи, воткнул штырь цепи в землю, дал Неве кусочек посолённого
хлеба, погладил и пошел домой. Было уже около 6 часов вечера. Мой первый
самостоятельный рабочий день длился 12 часов.
У каждого колхозника, в том числе и у школьников, были трудовые книжки, куда
бригадир записывал нашу работу. За взбороненное поле бригадир записал мне
полтора трудодня. Это были мои первые трудодни, и я с гордостью показал книжку
маме, папе, сестрам и брату Славке, которому было всего 4 года.
Русская печь
В Околке, в нашем доме, в левом углу, около входной двери стояла большая русская
печь. Спереди печи находилась топка с металлической заслонкой, над топкой —
кирпичная кладка до потолка. Между потолком и печью — зазор в два кирпича, в
этом зазоре лежала длинная деревянная лопата, на которой ставили хлеб в печь.
Еще наверху держали ухваты, которыми отправляли в печь горшки с варевом (щи,
супы, каши, молоко). Все это готовилось тогда, когда дрова сгорели и угли
погасли. Поэтому пища медленно тушилась и была очень вкусной. Особенно вкусным
было весеннее молоко с цветами черемухи. Молоко становилось темноватым, цветы
рассыпчатыми.
Длина печи около двух с половиной метров, ширина — два метра. Между стеной дома
и передней частью печи с топкой — зазор в полтора метра. Эта длинная и
просторная печная лежанка была излюбленным нашим местом зимой, куда мы,
замерзшие после улицы, спешили быстрее забраться.
Осенью на лежанках сушили сырое колхозное зерно. Колхоз привозил в каждый дом
3-4 мешка сырого зерна. Его взвешивали и отдавали под расписку. Зерно высыпали
на лежанку, и мы, ребятишки, должны были его перемешивать. Высохшее зерно
засыпали в мешки и сдавали обратно в колхоз. Процент усушки оговаривался в
килограммах и всегда выдерживался.
Нас было пятеро — три сестры и мы с братом. Сестры к началу войны были уже
сравнительно большие, поэтому лежанкой в основном пользовались мы со Славкой.
Русская печь — это душа избы в русской деревне!
Тыква
Тыкву у нас до войны не выращивали. Уже после войны, когда я учился в 6 классе,
мама принесла тыквенные семечки, купила их в магазине. На уроке наша учительница
рассказала много интересного про тыкву. Я решил ее посадить.
Мама отвела мне кусочек земли, три на три метра, на краю огорода, а рядом было
неиспользуемое колхозное поле. Я посадил семечки, регулярно их поливал, но росли
они очень медленно.
На колхозный склад привезли удобрение — белый кристаллический порошок. Мне
сказали, что это калийная селитра. Я попросил кладовщика, и он дал мне полведра.
Я рассыпал порошок по участку, где росла тыква, и стал ждать. Сначала заметного
улучшения роста не было, но через неделю ростки превратились в плети, они стали
удлиняться не по дням, а по часам, и потянулись через изгородь на колхозное
поле, на котором росла трава. Еще через неделю плети вытянулись на два метра, и
на каждой завязалось по две-три тыквы. Через месяц за забором лежало море тыкв,
которые все увеличивались и увеличивались в размере.
Где-то в середине августа мама послала меня в магазин в Тервеничах. Иду я и
вдруг вижу: лежат на обочине несколько моих тыкв, разрезанных на куски —
невкусными показались кому-то. Прошел сто метров, опять брошенная тыква, через
двести — снова!
Когда я вернулся из магазина и пришел на огород, то увидел, что количество тыкв
уменьшилось, но оставалось еще много. Прошел день, другой, третий, но покушений
на тыкву больше не было, ведь сырая она невкусная.
А мама всю зиму варила тыквенную кашу на молоке, и я до сих пор помню вкус и
запах этой прекрасной каши, сваренной в нашей русской печи.
За дровами
Шел третий год войны. Мы жили в своей деревне Околок. Мама работала в колхозе,
отец партизанил в окрестностях города Лодейное Поле. Сестры Нюра, Валя, Оля
учились, а летом работали в колхозе «Сталинец». Брату Славе было уже 6 лет. Все
домашние дела выполняли мы — дети. Я, как мужик, заготавливал дрова.
Однажды летом я запряг своего Грозного в телегу, взял топор, веревку и
отправился в лес. В двух километрах я давно заприметил сухие осины на крутом
склоне около дороги. Приехал на выбранное место, развернулся, привязал лошадь к
дереву и пошел к осине. Нарубил, уложил в телегу, закрепил веревкой, отвязал
лошадь, взял в руки вожжи и стал править к дому.
Дорога была узкая, справа — крутой склон, поэтому я шел с левой стороны, держа
вожжи. В какой-то момент правые колеса телеги соскользнули с дороги на склон,
дрова сдвинулись и перевернули воз, а вместе с ней и лошадь!
Стою я на дороге и вижу телегу вверх колесами, а рядом с ней лошадь на спине,
причем хрипит! Но я ведь деревенский! Быстро рассупонил хомут, убрал дугу,
распряг Грозного и с облегчением вздохнул.
И вот картина! Грозный стоит, телега лежит вверх колесами. Что делать? Я стал
кричать: «Помогите!» Кричал долго, Грозный стоял и «ухмылялся». Наконец я понял,
что никто не поможет, ведь я был в лесу, и что самому придется что-то делать в
создавшейся ситуации, и сразу успокоился.
Развязал дрова, они покатились вниз по склону, к счастью, недалеко, помешали
кусты. Попытался телегу поставить на колеса, но сил не хватило. Тогда привязал
один конец вожжей к телеге, вывел Грозного на дорогу, привязал второй конец к
гужу хомута, надетого на Грозного, взял коня за уздечку и повел его вверх по
склону. Вожжи натянулись, и телега встала на колеса. После этого связал концы
оглобель вместе, привязал к ним один конец вожжей, и Грозный вытянул телегу на
дорогу.
Я был очень, очень рад! Главное сделано, остались обычные дела. Быстро
перетаскал дрова, привязал их, запряг Грозного, взял его за уздечку и осторожно
вывел на хорошую колею. Сам уселся на дрова и, радостный, поехал домой.
Дома меня уже заждались, я им все рассказал, а они только охали и хвалили меня
за смекалку и находчивость. Я же с тех пор понял, что не надо паниковать, что
безвыходных положений не бывает, если сам человек не теряет голову!
Яшкина поляна
До революции 1917 года жил в Околке крестьянин Яков Наумов. В деревне все
считали его неудачником и звали Яшкой. За что бы он ни брался, получалось не
так, как ему хотелось. Корова давала мало молока, телята гибли, овец загрызали
волки, хлеба вырастали хилые.
Однажды Яков решил всех удивить. Выпросил у общества участок леса недалеко от
деревни, выкорчевал деревья, сжег их и на этом месте вспахал землю. Односельчане
говорили ему: «Яша! Это место очень низкое, здесь сеять нельзя, потому что
посевы или зальет водой, или они вымерзнут».
Парень никого не слушал и посеял рожь. Всходы были очень густые, сочные,
темно-зеленые. Рожь быстро росла и уже стала колоситься, но хлынули проливные
дожди, участок затопила вода, и рожь погибла. Яков рыдал от горя.
На следующий год Яша посадил на этом поле картошку. Картошка росла быстро, кусты
мощные, густые, вскоре зацвела, и вдруг заморозки! Так как поле было в низине,
холодному воздуху стекать было некуда, цветы и стебли сильно подмерзли. После
заморозков картошка немного поправилась, но урожай получился мизерный.
Яша еще несколько раз сеял, садил, но без успеха, и поле забросил. Оно
постепенно заросло снова лесом, и к 1941 году от него осталась маленькая
полянка, на которой росла густая трава, а в траве — земляника.
Полянка была рядом с дорогой, и для того, чтобы попасть на нее, надо было
спуститься вниз метров на десять. Мы часто туда ходили за земляникой и кричали:
«Кто на Яшкину полянку!»
Где-то в 1944 году я спросил у дяди Вани Кольцова, почему полянка называется
Яшкиной, и он рассказал мне про неудачника. Куда исчез Яков во время Великой
Октябрьской революции, никто не знает.
Лыжи
Перед войной, еще в Хмелезере, отец купил мне настоящие лыжи. Они были с
ременным креплением, средней ширины, длиной 170 сантиметров, очень легкие. В
первую же зиму в Околке все ребята завидовали моим лыжам и легким бамбуковым
палкам.
На школьных соревнованиях я с горы скатывался дальше всех, в снег проваливался
меньше всех и ходил свободно по полям и лесам. В лесу ставил силки на зайцев, но
неудачно, поймал всего одного, видно, не имел опыта.
В 1943 году в нашу деревню приехал в гости к Хозяиновым какой-то родственник из
районного села Алёховщина. Парню было около 17 лет. Он увидел мои лыжи, они ему
понравились, и он предложил мне продать их ему. Я отказался.
Парень пустил слух по деревне, что военкомат приказал все лыжи конфисковать для
фронта и якобы поручил это ему.
Я отправился на лыжах на озеро, а дом Хозяиновых стоял недалеко. Парень увидел
меня из окна, выскочил и погнался за мной, чтобы отобрать лыжи.
Я пустился наутек по целине, парень за мной, но скоро отстал. Я вернулся домой и
рассказал об этом маме. Мама пошла к Хозяиновым, и все выяснилось о «конфискаторе».
Парня отправили домой, больше он в нашей деревне не появлялся.
Сосновые пленки
Во время войны, весной, когда у деревьев начиналось сокодвижение, мы, ребятишки,
лакомились сосновыми пленками.
Брали топор, ножи и шли в сосновый лес. Находили сосну без сучков, диаметром
около 15 сантиметров, и срубали ее. Затем сдирали с сосны кору, а под ней был
мягкий, сладкий, вкусный слой толщиной около миллиметра.
Вот его-то мы и срезали ножами, получались пленки шириной до сантиметра. Обычно
на дерево приходилось два-три человека, они становились вдоль сосны, срезали
обычно короткие ленты и сразу же отправляли их в рот. В лес приходили еще раза
два, сокодвижение заканчивалось, лакомство тоже.
К концу лета дерево становилось сухим, и мы приносили его домой на дрова и
поделки. Сегодня это выглядит варварством, но во время войны надо было чем-то
заменять сахар и конфеты.
Но вот почему у нас не собирали березовый сок, не знаю до сих пор.
Хрен
У нас хрен никто не сеял. На межах, вдоль колхозных полей, рос «дикий» хрен, и
его копали все, сколько хотели, хрену было много, как и щавеля на этих же межах.
Откуда они тут появились, никто не знал.
Весной хрен, щавель (его у нас называли кислухой), крапива были нашими
витаминами, но мы об этом не думали.
В памяти у меня почему-то осталась тюря из хрена, картошки и домашнего кваса.
Мама посылала нас в поле, мы брали лопату и ведро. Хрен выкапывали, мыли в озере
и несли домой.
Уже дома очищали от мелких корешков и повреждений, а затем терли на мелкой
терке, обливаясь слезами. Мама высыпала хрен в кастрюлю, добавляла вареную
нарезанную картошку, заливала квасом, солила и получалась прекрасная тюря,
которую все с удовольствием ели.
Сейчас уже в мои такие большие годы я прочитал про хрен много интересного и
полезного для человека, но тогда, в войну, никто об этом не знал, да и не думал,
просто тюрю любили все, а она нам дарила здоровье.
Загадки
В 5 классе учительница дала нам домашнее задание: придумать хотя бы одну загадку
и написать сочинение на любую тему, но только небольшое. Представить загадку и
сочинение надо было через неделю.
Я долго ломал голову над заданным и, наконец, придумал. Первая загадка: «Не
старик, а хмурится, не дитя, а плачет». Вторая: «Маленький, пузатенький, спереди
хоботок — сзади кренделёк».
Сочинение я написал очень краткое: «Посреди ржаного поля стояли две пышные
березы. На их ветвях сидели воробьи и весело чирикали. Вдруг на вершину одной из
берез стремительно упал и сел большой ястреб. Воробьи быстро спрятались во ржи».
Учительница за загадки и сочинение поставила пятерки. В сочинении ей почему-то
больше всего понравилось слово «пышные», а ответ на загадки класс долго не
давал, его пришлось дать мне самому: туча и чайник.
Загадки всем понравились и мне тоже. Первую загадку я придумал после дождя,
вторую, когда пил чай.
Иван фёдорович
У моего отца Василия Фёдоровича был брат Иван и четыре сестры — Ольга, Анна,
Марина и Маша. Всем сестрам дали фамилию по имени деда Лариона — Ларионовы,
брату Ивану по имени отца Фёдора — Фёдоров, а моему отцу по прозвищу мураш —
Мурашов.
Отец был партийным человеком, всю жизнь проработал на должностях: председатель
колхоза, председатель сельского Совета, председатель сельпо. А в конце жизни он
стал рядовым колхозником.
Родной брат Иван Фёдорович Фёдоров всю жизнь был беспартийным и единоличником и
поэтому со своим братом, моим отцом, практически не контактировал, но и не
враждовал. Иван Фёдорович строил дома по подряду, клал русские печки,
столярничал, вел свое подсобное хозяйство. К единоличникам в то время власти
относились отрицательно, он не унывал, но частенько выпивал.
Ко всей нашей семье Иван Фёдорович, брат отца, относился хорошо, и мы признавали
его своим дядей. У Ивана Фёдоровича была дочь Тоня от первого брака, сейчас она
живет в Петрозаводске. В конце жизни Ивана Фёдоровича парализовало, и он
несколько лет пролежал в постели, ухаживала за ним его вторая жена.
Сегодня я задумываюсь, как резко изменилась жизнь моего поколения. Сейчас судьбы
моего отца и моего дяди могли поменяться местами, хорошо это или плохо — не
знаю.
Горох
Какие были угощения, радости у нас в военные годы? Когда начиналась весна, на
полях вырастали сочные пестухи, затем, на межах, кислухи (щавель). К середине
лета вырастали репа, морковь, брюква, турнепс и горох. Он нравился нам больше
всего.
Однажды мы с братьями Королёвыми и моим братом Славой пошли лакомиться горохом
на колхозное поле, кстати, на приусадебных участках его никто не сеял. Зашли на
средину поля, легли на землю, летом она теплая, а деревенские ребята закаленные,
и стали, лежа на спине, лущить зеленый сладкий горох.
Вдруг мы услышали гудение, а затем увидели низко и медленно летящий самолет,
который приближался к нам. Самолет поравнялся с полем, и мы увидели фашистские
кресты на крыльях и летчика, который смотрел на нас из кабины с высоты
трехэтажного дома.
Наши сердца замерли, мы ждали пулеметной очереди, но ничего не произошло.
Самолет пролетел, мы убежали с поля и ждали, что будет дальше. Самолет не
вернулся, мы снова — в горох.
Так мы увидели фашиста на расстоянии в несколько десятков метров, но я до сих
пор думаю, что этот немецкий летчик не был фашистом.
Умник
В 1942—1943 годах в деревне стояли наши войска, которые затем разгромили немцев
под Тихвином. В каждый дом подселили по нескольку солдат, и мы их кормили
картошкой, квашеной капустой, ведь больше ничего не было, так как всех коров к
этому времени отправили в Ленинград.
Когда солдаты ушли, от них осталась в колхозе заболевшая кавалерийская лошадь —
Умник. Вот этого Умника мне и вручил летом, после окончания учебы, бригадир —
дядя Ваня Кольцов. Вручил не сразу. Дядя Ваня собрал всех ребят: Вальку и Борьку
Королёвых, меня с братом Славкой, Тютрюмова Борьку, Петьку Ефимова и Ваньку
Вонозерского около колхозной конюшни и вывел Умника.
Умник был очень высокий по сравнению с остальными колхозными лошадьми. Ноги —
тонкие и красивые, длинная грива, густой хвост и весь рыжий! Он нервно перебирал
ногами, косил глазом и фыркал!
Мы остолбенели. Дядя Ваня и говорит: «Ну, кто смелый, садись!» Первым вызвался
Борька Тютрюмов. Его подсадили, дали в руки поводья уздечки, дядя Ваня,
державший Умника за уздечку, отпустил его. Умник закрутился на месте, все
разбежались. Умник вдруг встал на задние ноги, вскинув передние вверх, Борька
скатился на землю. Больше он не захотел пробовать. После него подсадили Ваньку
Вонозерского, Умник и его сбросил. Желающих больше не было.
Тогда дядя Ваня и говорит мне: «Юрка! Тебя лошади слушаются, попробуй!» Я
согласился, но сказал дяде Ване, что сяду на Умника, если убрать удила.
Меня подсадили, дали в руки поводья уздечки, дядя Ваня отпустил Умника. Умник
так же закрутился, встал на задние ноги, затем на передние, задрав задние вверх.
Я охватил его шею руками и удержался! Умник вдруг встал спокойно, я спрыгнул и
погладил его по голове, шее и гриве.
Мы подружились, и с тех пор я работал только на Умнике. Очевидно, ему
понравилось, что я его не взнуздал, не рвал его рот удилами и удержался, когда
он делал такие кульбиты.
Я работал с Умником три года и ни разу его не взнуздал. Мы возили дрова, навоз,
сено, почту, боронили. Умник никогда не пахал, так как ходил очень быстро и
скоро уставал от тяжелой работы. Поэтому Умник возил летом телегу, зимой — сани.
Как-то летом дядя Ваня запряг Умника и поехал за сеном. Нагрузил большой,
высокий воз и направился к дому. На обратном пути был длинный, крутой подъем.
Дядя Ваня восседает на высоком возу сена, Умник с разбегу поднимается на треть
горы и тормозит. Телега начинает тянуть назад, конь пятится, и все быстрее.
Телега сворачивает с дороги и наклоняется. Дядя Ваня кубарем летит на землю.
Больше никто, кроме меня, в телегу Умника не запрягал.
Я изучил своего коня и знал, что с тяжелым возом он длинную гору без отдыха не
осилит и поэтому возил всегда с собой толстую палку. Когда мы с тяжелым грузом
поднимались в гору, я всегда шел рядом. Как только Умник останавливался, я
быстро совал палку между спиц колеса телеги, и она уже не могла сдавать назад.
Умник переводил дыхание, я давал ему сигнал, быстро освобождал колесо, и Умник
устремлялся до следующей остановки. Уже на вершине я гладил Умника, садился на
телегу, и мы ехали дальше. Утром, перед тем как запрягать, я давал Умнику кусок
хлеба с солью.
В общем, мы друг друга понимали, были друзьями. В скачках Умник всегда побеждал!
Не знаю, почему кавалеристы, оставившие его, дали коню это имя, но оно ему
соответствовало.
Однажды летом мы с Умником поехали за почтой в Алёховщину. Рядом с почтовым
отделением я привязал Умника к изгороди, а сам отправился за газетами и
письмами. Через несколько минут я услышал ржание и стук копыт. Я выскочил на
улицу и увидел, что какой-то мужик отвязал Умника и пытается его увести. Умник
отчаянно упирается и ржет — зовет меня на помощь. После этого случая все
убедились, что Умник достоин носить свое имя.
Волк
В 1944 году в июле наша семья отправилась на заготовку сена. Мы запрягли Умника
и поехали в 4 часа утра на пожню у ближнего сарая. Так называлось место,
выделенное нам для сенокоса. Никакого сарая там не было. Еще до революции было
какое-то строение, но кому оно принадлежало, никто уже не помнил.
Приехали, привязали Умника вожжами к телеге так, чтобы он мог дотянуться до
травы. В этот день скосили траву. В деревне говорят: «Коси коса, пока роса, роса
долой — коса домой». Вот мы и спешили. К полудню управились и граблями
разворошили прокосы. К вечеру трава высохла, сгребли ее в валы, а затем уложили
в копны. На этом работа первого дня закончилась.
Переночевали в шалаше. Ночью Умник вел себя беспокойно, храпел, бил копытами. Я
встал, разжег угаснувший костер, Умник успокоился.
На следующий день надо застоговать — уложить сено в стог. Вырубили длинную
жердь, заострили комель и воткнули жердь в землю на месте будущего стога. Вокруг
настелили на землю с десяток коротких березок с листвой, вершинами внутрь.
Получилось круглое, диаметром около трех метров, ложе для сена, которое в
деревне называлось одоньем.
На одонье укладывалось сено, стог получался круглым, высотой около восьми
метров, диаметром до трех. Сено к стогу доставляли на волокушах. Волокуши — это
две густые трехметровые березы. Березы привязывались к гужам хомута, надетого на
лошадь, которая и тащила волокуши с копной сена к стогу.
День был ясный, и мы до 4-х вечера сено застоговали. Стали собираться домой.
Умник вдруг снова забеспокоился. Мы все посмотрели в ту сторону, куда конь косил
глазом, и видим: на опушке леса стоит большой серый лохматый волк, оскалив
пасть.
Мы схватили кто вилы, кто грабли, направили их на волка. Все истошно закричали
во весь голос. Я наставил на волка грабловище, будто ружье, и закричал: «Бух!
Бух!» Волк состроил гримасу, будто усмехнулся, постоял на месте несколько минут,
повернулся и спокойно ушел в лес. Мы быстро закончили дела. Умник мчался
радостный, без всяких понуканий.
Младший конюх
В 1943 году, зимой, мама работала в колхозе конюхом. Конюшня стояла на нашем
берегу, метрах в двадцати от озера на возвышении. В ней держали десять лошадей,
их надо было ежедневно кормить и поить. Воду наливали в корыта возле стойл. Воды
требовалось много, в сутки лошадь выпивала до трех ведер.
Вода нагревалась теплом самих лошадей. Ее из озера сначала выливали в бочки,
стоящие в конюшне, и только потеплевшую уже в корыта.
Сена не хватало, приходилось добавлять солому, искрошенную в соломорезке. В
солому добавляли немного муки, заваривали кипятком, охлаждали и засыпали в
корыто.
Я был официально оформлен помощником конюха и называли меня — младший конюх. За
сутки младшему конюху начисляли треть трудодня.
За эти трудодни я должен был обеспечить всех лошадей водой, дать сена и солому.
Воду я носил утром, до школы, а после занятий работал на соломорезке, каждый
день нарезал до десяти ведер. Солому использовали уже в конце зимы, когда сена
почти не оставалось. Воду я носил на коромысле по два ведра, но ведра заполнял
примерно на три четверти, ведь я учился в 4 классе, и мне было только 10 лет.
Брюки клёш
Первый курс техникума прошел незаметно, мы притирались друг к другу, к городу,
ведь большинство из нас были из деревень. В первом семестре я прогулял половину
занятий: шлялся по городу, по берегу Свири, сплошь усеянному разбитыми пушками,
автомашинами, неразорвавшимися снарядами и гильзами от снарядов.
В результате учился на четверки и тройки, а по английскому языку имел даже колы.
Стипендию с тройками давали, но вскоре объявили, что со второго полугодия
троечники ее получать не будут. Я жил в основном только на стипендию, изредка,
во время каникул, мне давала по пять-десять рублей сестра Ольга, которая была
уже замужняя. Поэтому я стал учиться добросовестно и даже стал отличником,
получая во все годы учебы повышенную стипендию. Окончил техникум с красным
дипломом, и фамилия моя вытиснена была на мраморной доске в вестибюле техникума
среди других выпускников-отличников.
К концу первого курса я стал полноправным учащимся, ходил по воскресеньям на
вечерние танцы в свой техникум. Туда приходили наши подруги и девчонки из
педагогического техникума. Мне понравилась одна гостья из педагогического
техникума, но я стеснялся, да и одежда на мне была очень примитивная,
деревенская.
Городские приходили в хороших пиджаках, в белых рубашках, некоторые с
галстуками, и в широких брюках клёш! Брюки развевались во время танца, они были
самыми модными, а мы — деревенские, и слова того до этого не знали.
Летом, после первого курса, родители купили мне брюки темно-синего цвета и
пиджак. Брюки были узкие, это меня сильно огорчало. На первые же танцы осенью я
пришел в новом пиджаке и новых брюках. Набравшись смелости, пригласил на танец
понравившуюся мне девушку. Она скептически оглядела меня, но танцевать пошла.
Мне ее взгляд не понравился, и я решил во что бы то ни стало вставить клинья в
брюки, чтобы они стали модными. Оказалось, что в городе есть несколько
мастерских, где можно за пять рублей вшить клинья. Деньги я урезал с обедов, но
вот найти подходящий материал долго не мог. В одной мастерской, наконец, нашли
такой материал, но он сильно отличался по цвету. Я все равно согласился.
И вот я появился в расклешенных брюках, подметающих пол, и пригласил ту же
девушку. Она пошла, но во время танцев улыбалась. Я спросил: «Почему ты все
время улыбаешься?» Она ответила, что мои брюки самые красивые, и я могу стать
законодателем новой моды. Я рассмеялся и рассказал, как долго искал материал для
клиньев. Она тоже рассмеялась, и я перестал обращать внимание на насмешливые
взгляды.
В этих брюках я щеголял еще два года, а потом они стали мне малы. Надо сказать,
что слово «стиляга» тогда у нас не звучало.
Формула
В техникуме у меня были большие успехи по математике, особенно в тригонометрии.
Задачи по тригонометрическим функциям я щелкал как орехи, и поэтому меня часто
просили о помощи в выполнении домашних заданий.
При сдаче экзамена я решил задачу каким-то особым способом, из-за чего
преподаватель умилился, продержал меня полчаса, рассказывая о новом способе
решения, так что я был уже не рад своей находке. Наконец он поставил пятерку и
отпустил. Все уже думали, что экзамен я «завалил», но преподаватель так
расхвалил меня, что ребята дали мне прозвище — Формула.
Так меня дразнили полгода, пока не произошел один случай. В общежитии у парня из
Петрозаводска был настоящий велосипед, и вполне исправный. У нас в деревне был у
Королёвых велосипед, но без цепи и педалей. А тут — новенький, со всеми
принадлежностями!
Конечно, всем хотелось покататься. Хозяин велосипеда не возражал. Образовалась
очередь, в ней стоял и я. За мной стоял еще один парень из Петрозаводска —
Николай Сазонов, земляк хозяина велосипеда. Настала моя очередь, и вдруг Николай
отталкивает меня со словами: «Очередь моя, Формула!» Я был унижен, оскорблен и
разозлен. Я оттолкнул Николая от велосипеда и поставил ему под глаз большой
фингал. Все оторопели. Я сел на велосипед, проехал положенный круг и отдал
велосипед Николаю. Все одобрительно молчали, в том числе и Николай.
С тех пор Формулой меня никто не обзывал.
Водяной
После третьего курса, на каникулах, родители попросили меня навестить мою сестру
Анну. Она жила с мужем Александром Ивановичем и детьми, Сашей и Валей, на
лесопункте Туймазы Ленинградской области.
На автобусе я прибыл в гости. Александр Иванович Барышев, Анна и дети встретили
меня радостно. Было воскресенье. Я умылся, отдохнул немного с дороги, и мы сели
за стол.
По русскому обычаю выпили, поговорили обо всем — о моей учебе, о родителях, о
жизни в Околке, об обстановке в Туймазах и о многом другом. Наступил вечер,
ребята и говорят: «Сегодня в клубе танцы!» Я, конечно, захотел на танцы, ведь
мне было 17 лет!
Мне показали дорогу и предупредили, что в одном месте надо переходить маленькое
болотце по мосткам и чтобы я был осторожен. Я отправился. Пришел на «опасное»
место и вижу: две лаги переброшены через воду, там плавает тина. Я осторожно
ступил на лаги, одолел половину пути, поскользнулся и — бултых в воду!
Погрузился по горло! Еле-еле выбрался. В ботинках хлюпала вода, с костюма
стекали струи, но я направился к клубу. Дошагал до клуба, сел на крылечко, вылил
из ботинок воду, выжал носки, снова обулся и вошел в клуб.
Танцы были в разгаре. Я встал у стенки и наблюдал. Танец окончился, и начался
следующий. Я направился пригласить на танец девушку, за мной тянулся водяной
след. Подойдя ближе, я увидел, что она страшно испугалась. Я подошел к
следующей, результат тот же.
Я ушел домой, болото обратно одолел благополучно, очевидно, протрезвился после
домашнего застолья. Дома после моего рассказа все долго смеялись.
Утром, проснувшись, я долго очищал свою одежду от засохшей тины. А когда сестра
Анна вечером гладила пиджак, брюки, то сказала: «Можешь снова идти на танцы, — и
добавила: Водяной!» Я удивился, почему водяной!
Анна пояснила: «Так тебя назвали девчата после танцев».
Дорога
После третьего курса я поехал домой. Оказывается, к родителям, до моего приезда,
приходил дорожный мастер и сказал: «Я слышал, что ваш сын приезжает на каникулы.
Он у вас энергичный парень, есть хорошая денежная работа — вырубить лес вдоль
дороги на Ребовичи, начиная от Тервенич. Ширина вырубки — пять метров,
расстояние от Тервенич — четыре с половиной километра. Стоимость — 1000 рублей,
срубленный лес сложить в кучи».
По приезде родители сразу мне об этом и рассказали. Я с радостью согласился.
Наточил топор, нашел старые ботинки и стал ждать дорожного мастера. Он вскоре
пришел и повел меня на место будущей работы. Прошли Тервеничи, все обсудили, как
надо вырубать, складывать. На следующий день я должен был приступить к вырубке.
Рано утром мама налила мне в бутылку молока, дала горбушку черного хлеба, и я
отправился. До места вырубки от нашего Околка было два километра. Это расстояние
каждый день увеличивалось на длину убранного леса, а площадь работ составляла
четыре с половиной километра. В первый день я вырубил лес на полосе длиной в
двести метров. Устал, домой вернулся вечером.
В течение месяца задание было выполнено. К концу работы я окреп и уже почти не
уставал. В обед выпивал молоко, закусывая хлебом. За день несколько раз пил воду
из лесных луж, обошлось благополучно. От мастера я не услышал ни одного
замечания. Получил заработанные деньги, сказал «спасибо», и все.
Пришел домой, отдал деньги родителям, а отец и спрашивает меня: «А ты угостил
мастера?» Я отвечаю: «Чем?» Отец говорит: «Бутылкой!» Нет, отвечаю. Отец
укоризненно покачал головой, а я до сих пор чувствую неловкость от того, что не
отблагодарил человека по народному правилу. Я, правда, и сегодня не умею
благодарить таким способом.
Дранка
Крыша нашего дома в Околке была покрыта тесом. К 1948 году доски стали гнить,
крыша накренилась вдоль дома и еле держалась на стропилах. Надо было срочно ее
чинить — в первую очередь надо было убрать крен, и я решил применить клинья.
В колоде, толстом бревне длиной три метра, вырубил прямоугольное отверстие.
Приготовил шесты. В средней части чердака на поперечные балки прибил широкую
толстую доску, а на ней закрепил колоду. Вытесал двенадцать березовых клиньев.
Один конец шеста упер в стропила, около конька крыши, второй — в колоду и стал
забивать клинья: один, второй, третий. Крыша начала выправляться и в конце
концов встала вертикально. Я ее зафиксировал двумя шестами.
Теперь надо было готовить дранку. Дранка — это осиновые пластины длиной до
тридцати сантиметров. Мы с отцом в лесу заготовили осиновые бревна, распилили их
на чурбаки. Чурбаки отесали, затем из них на специальной установке, которая была
в колхозе, наготовили дранку.
В хорошую погоду, без дождей, убрали старые доски с одной стороны крыши и стали
накладывать дранку. Эту работу я делал один. Обе стороны крыши я покрыл дранкой
за 10 дней. Дранка на крыше стоит до сих пор, хотя прошло уже почти 60 лет!
Практика
Зимой 1951 года я был направлен на производственную практику в паровозное депо в
Сумском Посаде. Из Лодейного Поля на поезде мы — группа практикантов, доехали до
станции Сороки, город Беломорск. Сороки встретили нас густейшим туманом, мы еле
добрались до управления железной дороги, в пяти метрах ничего не было видно.
Такого тумана я не встречал никогда.
В Сумском Посаде я стал работать помощником машиниста. По прибытии мне устроили
экзамен, я его выдержал и получил удостоверение. Одну неделю проработал в депо —
ремонтировали паровоз. Затем водили поезда. Станции Вирна, Выг, Сороки — в одну
сторону от Сумпосада. Колежма, Нюхча, Малошуйка — в другую.
Жил в общежитии, питался в столовой, кормили в основном треской. Суп — из
трески, котлеты — из трески, жареная треска и чай без сахара. Хлеб черный. В
оборотном депо умывались под душем, отдыхали и вели очередной поезд обратно — в
Сумпосад.
В феврале начались сильнейший снегопад и метели. Пути между станциями
освобождали специальные снегоочистители, сбрасывая снег под откос. На станциях
приходилось убирать его лопатами. На очистку путей вывели всех работников
станций. Пути стали походить на туннели, по которым мог пройти только поезд.
Из-за этих туннелей я чуть было не попал под паровоз. Мы маневрировали на
станции Сумпосад, надо было перевести стрелку и ехать обратно. Я сошел с
паровоза, перевел стрелку, вскочил на нижнюю ступеньку со стороны машиниста и
закричал: «Поехали!» Машинист повел паровоз обратно, и мы въехали в туннель!
Меня зажало между лестницей и стеной туннеля, стало разворачивать и тянуть к
дышлам паровоза. Я закричал, машинист остановился. Он побледнел, долго не мог
говорить, затем закричал: «Старый дурак! Куда я смотрю!» Меня откопали лопатой,
потом долго смеялись и говорили, что мне повезло. Если бы я вскочил на лестницу
с другой стороны, то машинист бы не услышал моего крика.
Вскоре практика закончилась, я заработал одну тысячу рублей, сумму по тем
временам большую, и вернулся в техникум. Пятьсот рублей послал по почте
родителям.
Мне потом рассказали. Отец получил деньги на почте в Алёховщине и направился в
чайную, где собирались мужики. В чайной отец расхвастался, вот, мол, Юрка
сколько заработал, и всех угостил, пропив около ста рублей.
Куратор
В техникуме каждую группу «опекал» преподаватель: проводил собрания на разные
темы, политинформации, писал письма родителям и так далее.
Наш куратор Николай Петрович преподавал «Конструкцию паровозов». Ему было 40
лет, он окончил перед войной ЛИИЖТ имени академика Образцова, прошел всю войну,
получив два ордена. Мы с большим интересом слушали его рассказы о войне, о
работе на паровозе — почти всю войну он был машинистом на прифронтовых железных
дорогах.
Николай Петрович не говорил лозунгами, он общался с нами на нашем,
«подростковом» языке, не сбиваясь на нравоучения, ходил с нами в кино, в лес, на
Свирь. Рассказал, за что получили звания героев Советского Союза несколько наших
солдат, форсировавших реку Свирь.
Когда заходил разговор о будущей работе, Николай Петрович всегда говорил:
«Работайте честно, не думайте о награде за работу. Хорошая работа всегда
вознаграждается, и тем быстрее, чем меньше вы думаете о награде!»
Моя жизнь подтвердила его правоту и мудрость. Однако на смену советским устоям
пришел так называемый капитализм, трудовые достижения хорошей работы
обесценились.
Прощальный вечер
Незаметно прошли годы учебы в техникуме. Меня направили работать в
Петрозаводское основное депо. После распределения в техникум пришли из
военкомата агитировать на поступление без экзаменов в Ленинградское училище
военных сообщений. Согласились трое, Ленинград нас очень влек к себе. В тройке
был и мой земляк — Александр Шиваков.
В последний вечер собралась наша группа в общежитии, выпили первый раз за время
учебы, поговорили и разъехались по домам в тот же вечер. Остались только мы
трое. Уже поздним вечером пошли на реку Свирь, посмотрели на гуляющих, и такая
одолела меня тоска, что я подумал: «Дурак! Куда ты лезешь? Всю жизнь прожить по
приказу!»
Наутро я пришел в военкомат забрать документы. Мне их долго не отдавали,
воспитывали, даже угрожали. Наконец мне пришла в голову спасительная мысль, и я
сказал: «Я окончил техникум с красным дипломом и буду через год поступать в
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта». Документы мне
отдали, и через год я поступил в ЛИИЖТ. Через пять лет стал инженером-механиком
широкого профиля.
Александр Шиваков, мой земляк, училище закончил. Мы с ним встретились однажды на
родине, долго вспоминали дни в техникуме, и он мне сказал: «Ты правильно сделал,
что забрал тогда документы».
Техник-лейтенант тяги
Поезд пришел в Петрозаводск в 9 часов утра. В 10 часов я был уже у начальника
депо. В приемной представитель отдела кадров депо взял мои документы и повел с
собой.
В отделе кадров со мной был заключен трудовой договор, после чего мне дали
направление в общежитие и отвели на склад получить спецодежду. После окончания
техникума приказом начальника Северо-Западного округа железных дорог мне было
присвоено звание «техник-лейтенант тяги». Поэтому отдел кадров направил меня
теперь уже в управление дороги для получения новой формы.
Я получил китель с серебряными погонами техника-лейтенанта (одна звездочка),
брюки, шинель с такими же погонами и фуражку железнодорожника. В дипломе моем
значилось: техник-механик паровозного хозяйства.
Китель и брюки я почти не надевал, а шинель с фуражкой носил постоянно и в
Петрозаводске, и пять лет в Ленинграде во время учебы в ЛИИЖТ, и несколько лет в
Свердловске, куда был направлен на работу после окончания института на завод №8
МПС. Шинель я, конечно, носил без погон. Погонами еще играл мой сын Олег в
Свердловске, а потом они куда-то исчезли.
Начало работы
На второй день по приезде в Петрозаводск я пришел в депо к заместителю
начальника депо для беседы. Явился я в шинели, фуражке. Меня встретил высокий,
плотный, рыжий мужик с веселыми хитрыми глазами, где-то лет сорока. Он
поинтересовался моей семьей, учебой в Лодейном Поле и спросил, чем я хочу
заняться — стать техником по ремонту паровозов или сначала поездить. Я ответил,
что хочу сначала поездить. «Молодец, правильно мыслишь, но недельку посмотри —
что делается в депо», — и направил меня к комсоргу. Тот поставил меня на учет и
сказал, что после работы сегодня будет комсомольское собрание.
Оно началось в пять вечера. Меня выбрали секретарем — вести протокол. Это был
мой первый протокол, с ним я, видно, справился хорошо, так как на следующий день
комсорг явно стал смотреть на меня с уважением.
Неделя пролетела. Меня направили помощником машиниста на паровоз ОВ, все его
звали «овечкой». На этом паровозе я проработал четыре месяца. Формировали поезда
на станции Петрозаводск-Сортировочная и вели составы на близлежащие
железнодорожные ветки: на хлебозавод; ликеро-водочный завод; онежский тракторный
и плодоовощную базу.
Бригада «овечки» состояла из двух человек — машиниста и помощника. Кочегара не
было. В мои обязанности входило: поддерживать давление пара в котле,
периодически подбрасывая уголь в топку; следить за уровнем воды в котле и
своевременно подкачивать инжектором воду в котел; следить за сигналами и путями;
смазывать буксы паровоза; чистить котел, кабину, тендер; набирать воду, уголь,
дрова в тендер.
Больше всего мы любили ездить на хлебозавод, где всегда давали свежие горячие
пряники и булочки. Машинист набирал бракованного хлеба и булок домой для
поросенка. На плодоовощной базе нас снабжали фруктами и картошкой. Картошку мы
пекли в выемке сухопарника — это цилиндрический выступ наверху котла.
Машинист любил и ликеро-водочный завод, где получал бесплатно немного спирта или
водки. Меня в то время все это не интересовало.
С Онежским тракторным заводом связана такая история. Спуск к заводу был очень
крут, а в конце спуска резкий поворот направо, и всегда была опасность не успеть
вовремя затормозить и переключить стрелку. В противном случае паровоз с вагонами
разгонялся, сбивал ограждение и летел в речку, что однажды и произошло. Я лично
видел такую картину. Машинист и помощник рассказали, что тормоза почему-то не
сработали, и они едва успели выскочить, отделавшись ушибами и царапинами. Нам
однажды тоже не повезло на этой ветке, правда, не на спуске, а на подъеме,
который мы не сумели взять, и нас подцепил на буксир большой паровоз ЭМ. Это
было настоящим ЧП, нас спасло от серьезного наказания только то обстоятельство,
что мы тянули большое количество вагонов, которое было не под силу нашей
«овечке», о чем и предупреждал диспетчера мой машинист.
Месяцы работы на «овечке» были самые спокойные. Мускулы мои окрепли, я вник в
дела депо, машинистов, помощников машинистов, узнал более-менее Петроской
(Петрозаводск по-фински).
Замначальника депо сказал: «Пора водить поезда!» — и меня перевели помощником
машиниста на паровоз ЭМ («эмка»), затем на ИС (Иосиф Сталин). Начались поездные
будни.
Проба на права
Подходил к концу седьмой месяц моей поездной жизни и первый год работы в депо.
Надо было определяться с дальнейшей жизнью. С паровозом я освоился, с поездками
тоже. Мне предлагали сдавать экзамены на права машиниста, первым шагом к
самостоятельности была пробная поездка. Я согласился.
В августе 1952 года в поездную бригаду включили меня, как машиниста-дублера, и
еще прибавился машинист-инструктор. Он наблюдал за моими действиями и оценивал.
Я вел состав до оборотного депо и обратно. Перед Петрозаводском передал реверс
штатному машинисту. На вокзале Петрозаводска мой наставник сказал, что я сдал
пробную поездку успешно и похвалил мое владение тормозами.
Мы с ним по паровозной традиции отправились в ресторан. Сдав паровоз, к нам
присоединилась и бригада. Все меня поздравляли и желали дальнейших успехов.
В депо мне дали справку, что я выработал помощником машиниста с сентября 1951
года по август 1952 года 25574 километра. Мне оставалось сдать устный экзамен в
управлении дороги, получить права машиниста и начать тянуть эту нескончаемую,
изобилующую происшествиями, но довольно монотонную повседневную жизнь машиниста
или ремонтника паровозов в депо.
Я выбрал другую дорогу и поступил в Ленинградский ордена Ленина институт
инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н. Образцова. В нем я
проучился пять лет и в 1957 году получил диплом с отличием, стал инженером путей
сообщения, механиком.
|
|
 |
|
 |
|