|
|
|
|
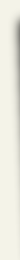 |

|
|
|
Волшебник слова и металла
— Мы, естественно, не собираемся переделывать саму природу хищника и не
предполагаем, что у каждого в квартире будет персональный волк. Но иметь
общественного квартального тигра — это вещь! Представьте, утром вы спускаетесь
со своего тридцатого этажа и видите: на клумбе сидит он, весь полосатый, и
нюхает розу. Ныряете вы в дворовый бассейн, а рядом резвятся два жэковских
тюленя… И я вас спрашиваю — что это будет, а?
— Зверинец?
— Это будет удивительная жизнь. Тигр проводит вас до гаража и даст вам зарядку
бодрости на целый день.
— Действительно… — только и смог сказать Нури, ошеломленный раскрывшейся
перспективой.
Сергей Другаль
Осень. Пора увядания, пора листопада. У Юрия Шевчука есть песня с такими
словами: «Осень, в небе жгут корабли, осень, мне бы прочь от земли, осень, в
море тонет печаль, осень, темная даль». Даль действительно темная, а печаль не
тонет. И возникает вопрос: «Что же будет с Родиной и с нами?» Сейчас столица
нашей Родины — политическая свалка, в которой сгрудились торгаши всех мастей и
где идет постоянная грызня за власть. Но есть надежда (она всегда умирает
последней), что свалку сдуют ветры перемен, и Родина распрямит спину.
Шевчук поет, он утверждает, что осень права, что листья должны облетать. Права
осень, права природа — куда ж денешься! Но сердце упирается. Оно не соглашается
с этой правотой природы. Очень хочется, как в новелле О. Генри, удержать этот
«последний» спасительный лист, чтобы больной, решивший, что со смертью листа
умрет и он, не дождался падения этого листа и остался жить, работать, творить.
Ни я, ни кто другой из друзей Сергея Другаля не смогли удержать для него
спасительный лист. И он ушел от нас. Немного минуло с его ухода. Поговорим о
Сергее, отдадим должное человеку, который многое мог и умел.
«— А кем он сделался теперь?
— Инженер. Специалист по вибромашинам.
— А что это за машины?
— Разгрузочные… Есть в нашем климате такая проблема — смерзшиеся грузы. Скажем,
уголь или щебенка. Пришел вагон, и в нем сплошная спекшаяся от мороза глыба. Что
делать? И вот ставят на вагон машину, которая создает своим механизмом вибрацию.
И груз от этой мелкой тряски разрыхляется.
— А вагон? — Сашка проявил неожиданный интерес.
— А в этом-то и сложность. Надо рассчитать так, чтобы груз рассыпался, а вагон
не пострадал».
Этот отрывок взят из повести Владислава Крапивина «Лоцман», в которой писатель
Игорь Решилов рассказывает юному другу Сашке о специальности своего сына Дениса.
Прототип известен — Сергей Александрович Другаль. Как говорится, один к одному,
ведь Другаль — доктор технических наук, член Сибирского научного центра Академии
транспорта РСФСР, наконец, создатель той самой вибрационной машины, что была им
разработана и воплощена в жизнь научно-технической лабораторией, которой
руководил Сергей Александрович. А еще Сергей Другаль — великолепный
писатель-фантаст и лауреат премии «Аэлита», когда-то врученной ему старой
гвардией журнала «Уральский следопыт».
Я в технике полный профан. Единственный механизм, который я когда-то освоил и
который мог использовать достаточно «продуктивно», это — брашпиль,
приспособление для отдачи и подъема якоря. Ну, мог ли такой «темный человек»
заинтересоваться вибромашиной и допытываться у ее изобретателя, как она
устроена? Конечно, нет и нет. Однако познакомиться все же посчастливилось.
Как-то Сергей позвонил мне и попросил приехать к нему в лабораторию. Есть,
говорит, заказчица. Хочет, чтобы ты намалевал для нее «марину». Я пришпорил себя
и, как штык, возник перед академиком. Коммерция много времени не заняла. С дамой
я быстро договорился, она исчезла, а Сергей (по своей инициативе, само собой)
повел меня в чертежную, дабы познакомить профана со своим последним детищем.
Согласно училищному диплому, я — преподаватель рисования и черчения. Какие-то
крохи знаний еще сохранились на чердаке памяти, поэтому, увидев на кульмане
чертеж машины (скорее машинки) в натуральную величину, я не стал хлопать ушами,
а превратил физиономию в «умное лицо» и стал усердно внимать пояснениям
инженера. Видимо, я делал это старательно. Возможно, даже пытался разобраться в
услышанном, в противном случае как сохранилось бы в памяти услышанное?
— Вот смотри, — говорил Сергей, — это воздушная турбинка с разновеликими
лопастями. Будет применяться впервые.
— Это продуктивно? — тупо спросил я, услышав и о других технических тонкостях.
— В теории — да. Надеюсь, что практика подтвердит. И дело даже не в этом. Сей
новый продукт радует тем, что голова моя по-прежнему работает. Ведь без этой
работы, Женя, я себя не представляю. В институте я сам себе хозяин, надо мной
практически никого нет. Тут, в лаборатории, все мое. Здесь я работаю с
удовольствием, а рассказы пишу — без. Завидую Славе Крапивину и тебе: каждый
день пишите. А мне сейчас нужна «Роза мира» Андреева. Без нее не могу начать
новую повесть.
— Начать без удовольствия?
Он засмеялся.
— Не придирайся к словам, крохобор.
— Я констатирую, а не придираюсь. Вот ты сказал: «Голова моя по-прежнему
работает». Боялся, что из-за инсульта она тебе откажет?
— Да, примерно так.
— Слушай, а где тебя долбануло?
— В «Самоцветах». Прямо в палате упал. Ко мне подбежали, а я им: «Не трогайте
меня! Не прикасайтесь!» Оставили на полу, укрыв простыней или одеялом. Лежал три
часа, держа голову в одном положении, потом пополз к кровати и развернулся вдоль
нее. Попросил таз и полотенце — будет рвать. Я не ослаб, — Другаль помолчал и
продолжил, — наоборот, собрался. Злость была. Прилив сил почувствовал и, рывком
— на кровать. С нее и вывернуло меня наизнанку прямо в тазик. После этой
процедуры лежал на левом боку, совершенно неподвижно, трое суток.
— Три часа и трое суток…
— Да. Только утку приносили. Через трое суток доковылял до туалета.
По-моему, это был уже его второй инсульт. Или первый? Впрочем, память моя уже не
та, но думаю, что упомянутый разговор случился, когда в СССР уже крепко
штормило, и был на дворе тот самый «незабываемый 1991-й», суливший стране такую
штормягу, которая и в дурном сне не могла присниться советскому человеку,
который все еще с разинутым ртом ждал давно обещанную халяву из светлого
коммунистического завтра, а вдруг увидел оскал капиталистического
монстра-недоноска, который унаследовал от изжившего и рухнувшего строя озверелую
бандитскую харю.
Впрочем, я шагнул через десятилетие. Далеко заглянул, а нам еще пришлось
пережить 75-летие «дорогого Ильича» с вручением ему пятой Золотой Звезды,
перетерпеть очереди за хлебом и колбасой, «мясные поезда» из Москвы и многое
другое.
Когда я познакомился с Сергеем? Дай Бог памяти… Нет, не помню. Знаю, что это
произошло во второй половине минувшего века. В начале 1980-х, когда Слава
Крапивин привел меня в редакцию «Следопыта». В журнале я тогда еще не работал,
но с тех пор стал довольно часто захаживать в старое здание на площади 1905
года. Сейчас в нем Дом актера, а в ту пору под его крышей жила редакция журнала,
которым командовал главред Станислав Мешавкин.
Однажды я забрел к «следопытам». Шел мимо, вот и заглянул, чтобы узнать у
редактора Толи Полякова о судьбе своего очерка о Калининграде, в котором я
недавно побывал.
Полякова в его «6-й комнате» не оказалось, куда-то усвистал, и я навестил
«прозу-поэзию и фантастику». «Проза» в лице Льва Румянцева отсутствовала,
«фантастика» присутствовала в двух лицах: Виталий Бугров принимал гостя — Сергея
Другаля. Я поздоровался, присел в сторонке и стал слушать «фантазеров». Разговор
шел «фантастический» и очень интересный.
Идиллию нарушил Поляков. Пришел с кружкой за чаем.
— Должен тебя огорчить, — увидев меня, начал он.
— Ничего другого я и не ожидал, — обронил я.
— И обрадовать должен. В Каире, во время военного парада, убит твой кровный враг
Анвар Садат, зато не пострадал твой лучший друг американский генерал Кингстон.
— Ты ошибся, Толя, — возразил я. — Однажды на ноябрьской демонстрации я увидел
на мавзолее президента Насера. Глыбой возвышался над нашими родными и любимыми
пыжиками-чижиками, он и стал тогда моим кровным врагом.
— Он даже удостоился фольклора великого советского народа, — сказал Сергей. —
Ходила когда-то по Москве такая юмореска:— и, припоминая, наморщил лоб. — Вот…
«Сидит в Каире, греет брюхо полуфашист, полуэсер, Герой Советского Союза Гамаль
Абдель на всех Насер».
Мы захохотали.
— Это не народ сочинил — интеллектуалы, — вмешался в нашу не менее
интеллектуальную беседу вошедший Румянцев. — У великого советского народа свои
заботы и свои юморески. Такую слышали? «Хоть вино теперь по восемь, все равно мы
пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и десять по плечу. Ну, а если будет
больше, то получится, как в Польше».
— Да, — вздохнул Поляков, — Кто толще, тот и пан.
— Ну, пан Ярузельский совсем усох от забот, а партийных да пузатых панов холопы
с Гданьска скоро ухватят за чубы, — выдал прогноз Другаль. — Ихняя
«Солидарность» и нас касается. Ведь что такое солидарность, спрашивает в
анекдоте россиянин россиянина и слышит ответ: «Солидарность — это когда в России
нечего жрать, а в Польше бастуют».
Лет эдак через пять-шесть Сергей вспомнил тот давний разговор. Не судите строго
мою путаницу в хронологии: «пять-шесть» — это всего лишь попытка как-то
определиться во времени и пространстве, а потому здесь будут приведены лишь два
факта, точно привязанные к определенным датам.
Вот первая: пятница 22 февраля 1992 года. Мы шли от Главпочтамта к Плотинке, шли
с собрания, на котором Сергей Александрович Другаль пополнил ряды сочиняющей и
пишущей братии. К этому времени Союз писателей СССР развалился по причине
идеологических разногласий. Появились две организации: Союз писателей России и
тот, в который приняли Сергея, — Союз российских писателей. Вместе с Другалем
были приняты Юрий Абрамович Левин, очеркист, и поэт Яков Андреев. У Сергея к
этому времени были изданы две книжки: «Тигр проводит вас до гаража» и
«Василиск», за вторую он получил премию-приз «Аэлита» от журнала «Уральский
следопыт». После этого он и попросил меня дать ему рекомендацию для поступления
в Союз. Это было и лестно, и… смешно. Да, смешно именно мне давать свою
рекомендацию Мастеру, который сразу вошел в нашу фантастику со своей темой и
героями, со своим неординарным отношением к природе и людям, наконец, со своим
языком и стилем, присущим именно ему, Другалю. Ведь я, хотя уже два года носил в
кармане красную книжицу с профилем Ленина, был всего лишь литературным щенком
рядом с Сергеем. Ладно, я был одним из трех заявителей, а в этой троице главным
был Слава Крапивин, моя литературная повивальная бабка. Для Другаля такой
«бабкой» стал Виталий Бугров. Со смертью Виталия Сергей не смог смириться до
своих последних дней.
— Поздновато решился на этот шаг, — сказал я ему.
— А мне не к спеху, — ответил он. — Для меня главное — лаборатория, моя работа,
а это — хобби. Помнишь, мы говорили, что придет час, и у нас «получится, как в
Польше»?
— Ну, было такое… Сбылось.
— Ты читал мою книжку «Тигр проводит вас до гаража»?
— Еще бы!
— Значит, Гигантюка помнишь. Я его списал с моего начальника. Я, может, из-за
него и писать-то начал всерьез. Стало уже не до баловства.
Еще бы я не помнил! Этот номенклатурщик говорил штампованными фразами. Сергей их
собрал до кучи, и та куча производила впечатление своим тупым глубокомыслием: «Я
не готов обсуждать этот вопрос; вы меня не убедили; так что вы предлагаете; вот
так и делайте; нам, товарищи, надо по-большому; так что будем показывать; здесь
мы с вами не додумали; что-то мы давно никого не наказывали».
— «Здесь у нас, товарищи, при подведении итогов работы произошла утечка
информации», — ответил я коронной фразой Гигантюка-Кащея и засмеялся. — Ты
хочешь сказать, что начальник узнал себя в Гигантюке и взбеленился?
— Ну, это само собой. А сказать хочу, что имя им, гигантюкам, легион. Когда-то,
и очень давно, по радио передавали юмореску. Возможно, Аркадий Райкин такого
деятеля изображал. Напакостит в одном месте, его перебрасывают на другое, «и
вскоре из кабинета слышался его руководящий бас: «Понять сие мне не дано, но
общее руководство осуществить могу». Похоже?
— Да. Но к чему ты?
— Все к тому. «Как в Польше». У них были перемены, теперь дошел черед и до нас.
Только вряд ли у нас «получится, как в Польше». Гигантюки никуда не исчезли.
Они, как клопы, забились в щели, вылезают мало-помалу и скоро, вот увидишь, все
возглавят, все разворуют и все развалят. Наша лаборатория, к примеру, уже трещит
по швам, а что творится в масштабах России?
— Не сыпь мне соль на рану…
— Крапивин часто пишет о своих снах, четких, ясных и убедительных. Я иногда
сомневался, так ли это. Я тоже вижу сны, но в моих всегда перепутаница. Без
начала и конца, а то и без середины. Четко мне снятся только чертежи и расчеты с
цифирями. А вот год назад и я увидел «крапивинский» сон. Реальный до жути.
Потому и запомнил — врезался!
— Ну-ну, излагай, не томи!
— Будто вызвали меня в КГБ. Одного не помню: то ли сам явился с повесткой, то ли
привели под конвоем. Привели, значит, но нет свободной для допроса комнаты. А
полковник, вызвавший меня, начинает обзванивать кабинеты и говорит кому-то,
видимо, попав в пыточную: «Да нам минут на пять-десять всего!» И я понял, что
сейчас меня будут пытать, а я все выложу. Хотя не знаю, что такое «все». Говорю
полковнику: «Меня нельзя пытать. У меня больное сердце, желудок, недавно инсульт
перенес. Если со мной что случится, имейте в виду, мои друзья знают, где я
оказался».
Ладно, повели меня и оставили у какой-то двери, около нее женщина с автоматом. А
мне захотелось писать, я и спрашиваю ее: «Где у вас туалет?» Она тычет автоматом
в конец коридора. Иду, иду и… оказываюсь на улице! И я рванул. Понял, что домой
нельзя. Надо скрыться у Пинаева или Крапивина. Может быть, переодеться и денег
перехватить.
Разговорный жанр — не мое амплуа. Боря Путилов, Гена Прашкевич, Эрик Бутин — вот
кого не надо было тянуть за язык. Эти златоусты умели плести разговорную вязь.
Прашкевич все еще с нами, по эту сторону вечности, и, думаю, не зарыл до сих пор
в землю свой талант. Что до меня, то, увы, собеседник из меня никакой. Правда,
на реплику в тет-а-тетной беседе моих способностей все-таки достаточно. Вот и
сейчас, выслушав содержимое сна, я предположил, что оное сновидение — результат
работы Сергея над очередным романом.
— Так, да не так. Не совсем так, — ответил Другаль. — Сон в основном связан с
моим отцом и с мытарствами по защите докторской. Отец ни за что ни про что
сначала побывал в казахской ссылке, где я и родился. В юрте, между прочим. А в
тридцать шестом угодил в ГУЛАГ возле Воркуты. Я о нем много думал в последнее
время. Видно, все переплелось в голове и отлилось в эдакую страшилку.
Диссертацию я в Москве защищал, в своем базовом НИИ, где она благополучно
пролежала два года без движения. Для создания моей вибромашины пришлось
обосновать свою теорию, а это многим не нравилось. Ведь какие-то машины уже
существовали, но после них очень быстро разрушались вагоны. Убытки колоссальные!
— А твоя что — высший класс?
— Что-то в этом роде. Словом, приехал в институт, забрал диссертацию и сам отнес
в ВАК, где напрямую и защитил свое детище. Ни фуршетов, ни банкетов. Сразу
уехал. И начали писать на меня кляузы и пасквили. Один из писак тоже оказался в
Свердловске. Мне о «телегах» ни слова, но я уже кое-что знал и кое о чем
догадывался. И когда этот тип вздумал защититься по моей теме, я ему отказал.
— Ну и дела-а… — промямлил я.
— Все те дела сплелись однажды в клубок и отлились в сон.
Мы уже миновали Плотинку и площадь. Остановились возле газетного киоска.
— А ты видишь сны? — спросил Сергей.
— Вижу. Но не «крапивинские», — ответил я. — В основном, как и ты, всякую
перепутаницу. Вечно я куда-то еду на поезде, блуждаю по вокзалам и считаю рубли:
хватит ли добраться до места? А куда еду, неизвестно. Сегодня, к примеру, снова
приснилась вокзальная толчея. В рюкзаке у меня корабельный магнитный компас
системы ГУ-127 миллиметров, от которого почему-то «откушена» чуть ли не
половина. И когда я укладывал его в котомку, кто-то уронил на него железяку и —
вдребезги остатки стекла над картушкой. Оченно это меня расстроило. И даже
потом, когда я оказался не в нормальном вагоне, а в теплушке, среди народа и
каких-то тюков, снова полез в рюкзак и уронил слезу на осколки.
Он засмеялся:
— Ты верен себе! Кто о чем, а вшивый о бане.
— Козьма Прутков упомянул три дела, которые, однажды начавши, трудно кончить:
вкушать хорошую пищу, беседовать с возвратившимся из похода другом и чесать, где
чешется, — ответил я на его «реверанс». — Как видишь, я чешу, где чешется, до
сих пор. Подкорка работает. Против моей воли. Знаешь, проснулся с готовым
стишком. Тоже во сне сочинил:
Мокрая сорока крутит головой
За кустом малины, сидя на заборе.
Небо, как портянка, дожжик… боже ж мой!
Ну, почто я здеся, почему не в море?!
Он захохотал, а потом спросил с улыбкой:
— Ты только во снах отдаешься поэзии?
— В основном. Непроизвольно. Я ж не поэт и не брюнет. Все зависит от
эмоционального заряда, с каким бросаюсь в объятия Морфею. Вот тебе еще пример
для иллюстрации:
Был день, в натуре, впрямь-таки дурной,
А ночью? Х-хе… крошит врагов Чапаев!
Знать, я домой вернулся… гм, хмельной, хмельной,
Небритый, как бандит Шамиль Басаев.
— Ну, ты даешь, боцман, хотя… Что ж, мне это знакомо. Моя подкорка тоже
предпочитает угощать меня во снах чертежами, расчетами и приборами, о чем я тебе
уже говорил. Сухая, скажешь, материя? Но в этой материи все мои эмоции. Весь
заряд. Почти. Остаток, крохи, уходят на писанину. Ей-богу, если бы не Витя
Бугров, давно бы выбросил эти крохи в форточку.
В газетном киоске мы купили по номеру «Народной правды», аналогу прохановской
газеты «День». Я взял ее из любопытства, из-за статьи некоего г-на Бушина,
написавшего о «неграмотном Солженицыне», которого-де выручают только редакторы и
корректоры.
— Иногда читаю подобную макулатуру, — сказал Сергей. — В лечебных целях, так как
при чтении испытываю те же ощущения, когда расковыриваешь чей-то чирей. Во
всяком случае, после такого чтива яснее видишь своих отрицательных персонажей,
всю их мерзость с гноем, сукровицей и всякой побочной дрянью.
Именно такой беседой закончился тот памятный день. Может, я что-то приврал по
мелочам, зато не в ущерб истине, а токмо ради художественной правды. А что до
истины, то к ней надо относиться с известной осторожностью. Стоит, например,
задуматься над высказыванием Фритьофа Нансена по этому поводу: «Истина? Почему
все так дорожат истиной? Жизнь — больше, чем холодная истина, а живем мы только
один раз». Истинно так! А потому примите мой рассказ о далеком уже февральском
дне 1992 года таким, как я его здесь описал.
В 1990-е годы я часто навещал Другаля. Чаще всего встречались в его кабинете.
Пожаловал к нему однажды, и он с ходу пожаловался, что занят не наукой, а только
добыванием денег для лаборатории. То есть в основном торговлей вибромашинами. А
это и поездки в Москву, в министерство, встречи с чиновниками разного ранга,
которым ничего не нужно и которые стремятся лишь уязвить тебя, вытереть о тебя
ноги, зная, что ты доктор наук, академик, да к тому же еще и писатель.
И вот тут я, пардон, перебил его. Проиллюстрировал жалобу анекдотом с небольшой
бородой. Говорилось в нем о встрече Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике.
Американский президент решил угостить советского гостя ужином. Особенно вкусным
оказалось последнее блюдо. Наш Миша заинтересовался рецептом. «Пришлось зажарить
мозги одного из министров», — со скорбью в голосе ответил Рейган. Горбачёв
закатил ответный ужин, но последнего блюда не подали. «В чем дело? — взъярился
Миша. — У нас столько министров!» — «Десяток забили, — последовал ответ, — а
мозгов ни у кого нет. Одни языки». Сергей сделал ответный ход, но у его анекдота
борода оказалась длиннее. Журналист спрашивает Брежнева: «Леонид Ильич, вы член
партии?» — «Нет, я ее мозг». Последнее слово все-таки осталось за мной. Мой пас
тоже имел порядочную бороду. Брежнев, выступая на ЦК, недоумевает: «Вы знаете, у
товариша Пельше уже старческий маразм! Вчера иду по коридору, навстречу он.
Здравствуйте, говорю, товарищ Пельше! — Здравствуйте, — отвечает, — только я не
Пельше».
Посмеялись и отправились к Сергею домой. Весь путь — пересечь улицу.
Сергей быстро сварганил супчик, плеснул мне в рюмку коньяку. Я только пригубил и
отдал ему (вот было времечко: Пинаев — трезвенник со стажем!). Видимо, коньяк
навел его на мысль о брате, который нигде не работает и пропивает пенсию
парализованной матери и то, что ей высылает Сергей. Выплеснуло из Сергея —
наболело, и крепко: «В этот раз я высказал ему все, что думаю о нем, но вряд ли
поможет».
— Поездки в Москву, — добавил Сергей, — тоже одна из причин, заставляющая
работать без нормы. Поездки пока что раз в три месяца и за казенный счет, а
потом? Пенсия у меня 9000. Кладу ее на книжку. Накопил 55 тыс., чтобы потом,
когда уйду из лаборатории на вольные пенсионные хлеба, было на что жить и
ездить. Один кг мяса в месяц надо? Надо. Одну курицу тоже надо. Надо один кг
масла, одну бутылку водки. Я люблю пиво, но позволить его себе не могу. А еще
мне нужен костюм, чтобы не ударить в Москве в грязь лицом, когда обиваю пороги
кабинетов. Здесь он — 9 тыщ, у Зайцева, из своего материала, 120 тысяч! А обувь?
— Тебе сколько денег нужно на жизнь? — спросил он, когда мы только еще пришли к
нему.
— Тыщи три, — ответил я, подумав. С этого, собственно, и начались его финансовые
подсчеты.
— Мне вот после инсульта не пишется, — резко переменил тему Сергей. — Написал
девять страниц нового рассказа, а когда закончу? Не люблю писать.
— Странно… Так здорово писать и не любить? Не понимаю. Ведь люди обожают твою
фантастику!
— Обожают… А знаешь, как началось мое писательство? Еще в Москве началось, когда
я работал в базовом НИИ МПС. Здесь у нас филиал его. Был я тогда аспирантом, а
один мой коллега в том же звании, посчитав себя писателем, дал мне для оценки
свой рассказ. Прочитал — мура. Высказал я ему свое мнение и сказал: давай на
спор, я напишу, и у меня сразу возьмут. И взяли. И просить стали: давай еще.
Стал давать. Но я же технарь, гуманитарного образования — раз, два и обчелся.
Учиться стал, да и Катя моя на это дело подвигла. И анекдоты помогли. Не те,
может, которыми обменялись, но похожие. Ведь ИХ мозги одинаковы в любом
фольклоре. Так и началось.
А тут и Катя пришла на обед, Екатерина Митрофановна. У нее свои проблемы: «она
не вписывается в современную жизнь»! Так и сказала. А вписаться хочется,
заняться бизнесом, завести собственное дело. Но помощников нет, а Сергей не
желает помочь.
— Я старый больной человек, которому нужен покой, — проворчал доктор технических
наук, академик и литератор. — И чего тебе надо? У тебя есть работа, есть дом,
есть заботливый мужик, который может то и это…
Я знал, что Сергею нужен отдых, что он должен вздремнуть, и распрощался...
Сергей дал мне копирки и немного бумаги для пишущей машинки, от которой я не мог
отказаться — «деф-фцит»! Кстати, в тот день я узнал, что «Язычники» Сергея
помещены в «Мире приключений» за 1990 год. Рекомендовал «Миру» покойный Аркадий
Стругацкий, а рекомендация старшего из братьев дорогого стоит.
Вот такую запись я обнаружил в своих «анналах». Она и помогла по свежим следам
восстановить нашу предыдущую беседу, случившуюся год назад.
Обычно после каждой «Аэлиты» главные персонажи, то есть обладатели премии и
«лица, приближенные к императору», собирались на посиделки у Виталия Бугрова. И
вот, припоминая те годы, я вдруг сообразил, что не помню, когда же Сергей
получил эту премию и где ему вручали ее. Позвонил Крапивину, тот порылся в
Интернете и ответил: «В 1992 году за роман «Василиск». Я принял это к сведению,
но засомневался. Внутренне не мог согласиться: не мог же я пропустить столь
торжественный момент в жизни друга?! Но, как ни крути, выходит, пропустил. А
потом вообще запутался, пытаясь понять, что раньше появилось — яйцо или курица?
«Язычники» или премиальный «Василиск»? Словом, память отказала, и наступило
нечто вроде ступора. Почему-то вспомнился давний спор Крапивина и Бугрова из-за
авторов, предложенных челябинскому сборнику «Поиск-89». Слава убрал из него свой
«Выстрел с монитора». Сделал это ради повести Александра Больных «Видеть
звезды». А Немченко, тогда редактор Средне-Уральского книжного издательства (в
простонародье — СУКИ), отклонил «Язычников» Другаля, в то время как Больных шел
«железно». Правда, к этому времени Сергей поработал над романом, но спор между
мэтрами фантастики продолжался. Виталий Иванович упрекал Владислава Петровича за
его протеже: мол, так и порождается серая литература. Я помалкивал, но мысленно
держал сторону Бугрова: начинал читать «Видеть звезды» в нашем «Следопыте»
(повесть шла в двух номерах) и бросил это занятие — жвачка она и есть серость,
серая жвачка. Вспомнив этот спор, не мог вспомнить, попал ли в сборник Другаль?
И книжки не было под рукой, чтобы проверить.
Все так, но как быть с Другалем и «Аэлитой»? Поднапряг память и вспомнил, что в
это время я после работы сразу покидал город и уезжал в Калиново, куда
перебрался три года назад. А в тот час, торжественный для Сергея, мы с дедом
ладили баню, за мхом съездили на болото, уложили половину венцов, и я, мысленно
повинившись перед Сергеем, взвалил на плечи очередное бревешко и поволок к
«прорабу». Все так, но у кого узнать подробности, у кого же о нем спросить про
тогдашнюю «Аэлиту»? Ба, конечно, у Сергея-ибн-Ивановича Казанцева,
всенепременного участника мероприятий подобного толка. Совсем недавно он
собирался навестить меня, но занедужил и отменил поездку. Вот и повод справиться
о здоровье, а заодно получить нужные сведения у «энциклопедиста», который
наверняка хранит в своей копилке все детали, вплоть до самых пикантных.
Созвонились в тот же день.
Я, как говорится, поставил вопрос ребром и получил исчерпывающий ответ.
Да, Сергею Александровичу Другалю награда за «Василиска» была вручена на первой
и последней «выездной сессии», которую провели на базе биатлонистов
спортобщества «Динамо».
Подтверждение этому я обнаружил в журнале «Уральский следопыт» № 9 за 1992 год,
среди книг, уцелевших после пожара, который уничтожил мою Каюту-мастерскую много
позже, уже в наши дни. Первая страница обложки, внутренняя сторона. На ней
крупно начертано красным: «АЭЛИТА»-92. Рядом помещена фотография лауреата. По
его правую руку стоит приз, по левую — лежит букет цветов. Ниже помещен
небольшой текст: «22–24 мая на территории спортбазы «Динамо» по биатлону, что в
двенадцати километрах от столицы Среднего Урала, состоялся — вот уже в 11-й раз
— наш традиционный ежегодный праздник фантастики. Лауреатом «Аэлиты»-92 стал наш
земляк — екатеринбуржец Сергей Александрович Другаль. Одновременно обрели своих
владельцев и два других приза. Приз имени А.И. Ефремова — за вклад в развитие
отечественной фантастики — присужден петербургскому писателю Андрею Дмитриевичу
Балабухе. Приз «Старт» — за лучшую первую книгу — вручен тоже петербуржцам
Александру Тюрину и Александру Щеголеву».
В этом же номере помещен небольшой фантастический рассказ Сергея Александровича
«Предчувствие гражданской войны».
Добавлю, что тогда же попал мне в руки «Следопыт» № 6 за 1979 год. В нем
опубликован крупный рассказ «Экзамен», положивший, как мне думается, начало
работе над «Василиском».
Вот такое у меня получилось отступление…
— Почему на «первой и последней»? — не удержался я от вопроса.
— Женя, это была самая пьяная «Аэлита», повторения которой в таком виде было
решено больше не допускать, — хихикнул Казанцев. — Фэны, а ведь ты знаешь, что
они приехали со всех концов бывшей эсесесерии, вырвавшись на свободу из скучных
городских узилищ, кроме разговоров, диспутов о путях фантастики и ее нынешнем
состоянии, «предались приятственному занятию пиянства». Их же толпа! Кто куда, а
кто в буфет. Другаль, Крапивин, Бугров и я занимались докладами и спорами о том
и сем, а кое-кто… Посреди базы стоял огромный идол — солдат на лыжах и с ружьем.
Так вот, приезжий народ, познавший «это сладкое слова свобода», лез ему на
плечи, фотографировался на его фоне, а некоторые даже пытались «отобрать»
винтовку. Но это — фон, который не влиял и, в общем, не мешал деловой стороне
встречи.
— Я недавно прочел речь Сергея, произнесенную после вручения премии. Он упомянул
и твой подвиг, — поддел я Казанцева.
— Это какой же?
— Как ты довел тираж книжки «Тигр проводит вас до гаража» до ста тысяч вместо
тридцати, запланированных издательством, и как ты получил втык от Госкомиздата и
был лишен за самоуправство квартальной премии. Куда смотрел Селиванов (В.И.
Селиванов — главный редактор Средне-Уральского книжного издательства – ред.)?
— Э-э, голь на выдумки хитра. Да и премию вернули, когда книжку купила Польша.
После этого ветер задул в наши паруса. Селиванов — чиновник, а чиновники всегда
держат нос по ветру.
Каким он, Сергей Александрович, был в жизни? Для этого достаточно прочесть то
немногое, написанное им. Доброта к людям и нетерпимость к любой подлости,
принципиальность… А впрочем, к чему все эти экивоки! Сегодня я выгреб на стол
старые записные книжки и обнаружил в одной из них довольно пространную запись.
Старую. Она так и начиналась: «У Другаля. 20.01.91 г.».
Разговор начался не в его кабинете. Я вышел покурить в некий коридор-переход,
соединявший лабораторию с каким-то другим помещением. Мы стояли у окна и
смотрели во двор с какими-то строениями, помойкой, дверями туда и сюда. Помню,
меня удивило обилие собак разного возраста, вида и окраски. Именно у помойки они
подбирали какую-то еду, расходились и грызли, не слишком удаляясь друг от друга.
— … этих косточек им мало, — сказал Сергей. — Им пару булок хлеба надо да ведро
похлебки, опивок. Там, во дворе, под сараем постоянно обитает штук десять.
— Прямо псарня Троекурова! — удивился я.
— Нет, не то. Сук много. Уже брюхатые, с выменем. Но больше десяти не бывает.
Большего числа помойка не выдерживает. Помойка от столовки, но сейчас тамошние
бабы стали забирать объедки для свиней. Их держат многие. Теперь мы с
лабораторией моей начали собачек подкармливать. Хорошо, зима теплая, так щенкам
под сараем… авось, выживут.
Я докурил сигарету, вернулись в кабинет.
— Знаешь, людей сразу видно. Встретишь иного во дворе, увидит собак и рычит: «У,
перестрелял бы!» Я ему: «Ну, все ясно…» «Что тебе ясно?!» — и брови к носу.
«Коммунист?» — спрашиваю, отвечая на вопрос. «Коммунист. И что?» «А то, что
других мыслей нет, как убить, расстрелять. Чем они тебе мешают? Ты им хоть раз
кусок бросил? Вот в этом, — говорю, — вся ваша большевистская психология».
— Помнишь, «мы в ответе за тех, кого приручили»…
— Вот-вот! А мы превращаемся в живодеров. Я, понимаешь, раньше, как зав, никогда
на партсобрания не ходил, а сейчас хожу. Интересно на них смотреть, как они
грызутся. А парторганизация разваливается. У меня в лаборатории осталось два
партийца, а в институте — штук двадцать. И каждый раз одна повестка дня: о
выходе из КПСС. Бывший директор института… пенсионер, но состоит на учете. Он
обычно и начинает. Предложения недоговаривает, говорит шепотом или орет. Зальчик
маленький, выскочит на трибуну и начинает: «Позор ЦК! Николу кровавого
расстреляли, а теперь?! Эту… у-у! хотят построить на этом месте! По телевидению
попы выступают!»
Потом лезет на трибуну полковник-отставник и тоже горло не бережет: «Надо что-то
делать! Надо привлекать молодежь, надо выпускать стенгазету. Я буду писать в нее
статьи!» Следом — капитан. Тоже отставник, сторожем работает. Совсем оглох, вот
и надрывается: «Их ТАМ всех надо перестрелять! Дайте мне группу ребят, я их
воспитаю! Я за коммунизм жизнь отдам, я за него на расстрел пойду, к стенке
стану!»
— Достали они тебя, Сергей?
— Достали не достали… Знаю, что вымрут, как динозавры… Меня другое удивляет, что
наши евреи из партии не выходят. Все их родственники давно уехали, а они сидят.
Я им толкую: «Вы-то что? Бросайте все и топайте в Израиль, пока еще можно!»
«Нет, говорят, мы коммунисты!» Ну, я еще понимаю тех, кто вступал в партию ради
карьеры. Они не могли иначе. Это когда с голода умираешь, то все равно украдешь.
А если вступает по идейным соображениям, то явный дурак. Вот и хожу на
партсобрания, как в цирк ходят — посмеяться да посмотреть на этих дураков. Я им
даже стишок декламировал. Помнишь, Балабуха у Бугрова читал:
Товарищ, верь, зайдет она
Твоя возлюбленная гласность,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена.
Не пронял. Поежились, поморщились и…
Такой у нас произошел разговор двадцать лет назад. Вроде ничего особенного, но —
черточка в характере Сергея. Я рад, что не поленился и записал. А «его евреи»,
талантливые лабораторные коллеги, все-таки уехали, но не в Израиль, а в Штаты.
Сергей их даже навещал там. Кого в Бостоне, кого в Нью-Йорке. Умницы, говорил он
мне, рассказывая о поездке, потому и живут хорошо, что выбросили-таки коммунизм
из башки.
Сергей Александрович любил свою лабораторию, свою работу. Он любил жизнь.
Поэтому эти строки, посвященные ему, стоит закончить словами замечательного
писателя-фантаста Рэя Брэдбери, тоже не так давно ушедшего из жизни:
«Надо готовиться к смерти. Но как? Через любовь к жизни! Смерть — это расплата с
космосом за чудесную роскошь побыть живым. Про себя я знаю: я делал хорошую
работу каждый день… Это чертовски здорово. А? На смертном одре я скажу себе: «Ну
и молодчина же ты, Рэй. Молодчина». |
|
 |
|
 |
|