|
|
|
|
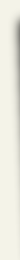 |

|
|
|
C его уходом потеряна звездная орбита
Свой «мемуар» я начинаю с небольшой главки, которой заканчивается «мемуар» «Под
созвездием Ориона». Он посвятил эту небольшую главку лучшему другу Виталию
Бугрову. Лучшего вступления я не нашел.
Итак, слово Крапивину…
«Мой бессюжетный «мемуар» почти окончен. Слово «мемуар» очень нравится Жене
Пинаеву. Он торопил меня с этой работой, чтобы «скорее ознакомиться», и однажды
ревниво спросил: «А о Вите Бугрове ты напишешь?»
Виталий Бугров появился в «Следопыте» почти сразу после того, как я в шестьдесят
пятом году ушел из редакции на «вольные хлеба». Он занял в штате мое место. Но
на этом самом месте он совершил то, чего я не сумел бы никогда в жизни, — создал
великолепный отдел фантастики и сделал журнал знаменем «фэнов» во всей стране.
Я виновато сказал Жене, что о нашем друге Виталии Ивановиче я писал не раз, а
теперь как-то «не укладывается в сюжет».
Но нет, укладывается.
…В «Уральском следопыте» решалась судьба моего нового романа. Сейчас вроде бы
решилась… Роман «Лужайка, где пляшут скворечники» посвящен памяти Виталия
Бугрова. Именно Вите, в отдел фантастики, я обещал этот роман еще в июне
девяносто четвертого, при нашей последней встрече.
…В старой архивной папке я нашел очень давние Витины стихи. Мы жили тогда, в
пятьдесят девятом, в одной комнате, и Витя подарил стихи мне.
Посвящены они не мне (в школьные-то годы мы не были знакомы). Может быть,
кому-то из Витиных одноклассников, а может быть, просто придуманному лирическому
герою. Не все ли равно. Теперь кажется, что и мне в какой-то степени…
Навсегда ли расстались мы,
Друг мой, дружище?
Если детства
растают сны,
Где их разыщешь?
Редко, редко припомнится,
Как
будённовской конницей —
Летним солнцем сжигаемы —
По полянам скакали мы.
Под лихими ударами
Цветы осыпались:
Соколами
недаром мы
Меж собой прозывались…
После боя частенько ссорились,
Каждый раз — навсегда:
Кто смелее — до боли спорили —
На врагов наседал?..
Только четче другое
помнится.
Не забыть никогда,
Как с будённовской нашей конницей
Приключилась беда…
Детство кончилось,
и минутами
Больно-больно кололо иглами:
Тайны все оказались
дутыми,
Игры —
играны-переиграны…
И на смену булатной стали,
Всю былую затмив
романтику,
Незаметно пришли и встали
Между нами
косички с бантиками.
Прежде мы их упорно дергали,
Лишь затем их и замечая…
Делать это —
недолго, долго ли? —
Продолжал сгоряча я.
Но однажды
(ее — «дразнючку» —
Я не сильно, но дернул всё же)
Ты мне задал такую взбучку,
Что, припомнив, — невольно ёжусь.
Я тогда ничего не понял.
Вновь при встрече
не утерпел…
Ты — спасибо тебе — напомнил
Мои знания о тебе…
Мы и прежде
нередко спорили,
Кипятились, мирились-ссорились…
Разве знал я, что этим —
кончится
Соколиная наша конница?
Может статься, что
в тысячах
Километров отсюда
Вспомнил детство и ты сейчас
В рубке судна.
Исчезает последний мыс
Легендарного Мурмана…
Неужели
исчезнем мы
Из памяти штурмана?..
Уплывая в Атлантику,
Вспомнишь — верю, что вспомнишь! —
О косичках, о бантике.
О клинках наших конниц…
В синей дымке растает мыс —
Глаз не разыщет…
Навсегда ли
расстались мы,
Друг мой, дружище?..
Витя мог бы стать замечательным поэтом и прозаиком. Он выбрал другую дорогу —
стал исследователем и знатоком фантастики и этим сделался знаменит среди
множества любителей книг о непостижимых тайнах и запредельных мирах.
А что касается его вопроса: «Навсегда ли расстались мы?..» Если он ко мне, то
думаю — не навсегда. Хочется верить, что еще встретимся — где-нибудь на грани
тех Безлюдных пространств, о которых я написал в посвященном Виталию Бугрову
романе. Под вечным созвездием Ориона…»
Эти воспоминания Крапивин пометил 1999 годом. Я решил заглянуть чуть дальше, а
потом — как получится. Крапивин был близким другом Виталия со студенческих лет в
университете, когда они «хлеба горбушку и ту — пополам», я же присоединился к
ним много позже и считал себя добрым приятелем обоих.
Со дня смерти Вити Бугрова прошло уже немало лет, а я намерен начать свои
воспоминания с майского дня восемьдесят третьего года. Виталию Ивановичу Бугрову
предстояло прожить еще одиннадцать лет. Только одиннадцать! И вот…
…И вот отшумели по стране первомайские демонстрации, наступило второе число. Я с
утра был занят делом — торопился закончить очередную «оформиловку» для сдачи
худсовету. Я работал тогда в художественно-производственных мастерских и,
значит, выполнял любую работу, которую давал мастер цеха. На сей раз это были
изображения всякого рода пожаров — заказ пожарного депо, находившегося на улице
Карла Либкнехта.
Принялся я споро и успел «поджечь» то ли фабрику, то ли завод, однако мой
трудовой порыв был прерван появлением гостя. Это был писатель П. Не буду
называть его фамилию. Он вошел и с ходу поинтересовался:
— У тебя есть что-нибудь?
— Налью рюмку, но не больше.
— А я шел мимо — дай, думаю, поздравлю с праздником.
Я достал бутылку с медицинским ректификатом (заработал в мединституте у
профессора Ястребова), наполнил рюмку, а бутылку…
— Эй, куда убираешь — ставь на стол! — воскликнул прозаик.
— Я сказал, что больше рюмки не дам.
— Что это?
— Спирт…
— А-а… Тогда дай что-нибудь занюхать.
Я принес кружку чая и ватрушки.
А гость вдруг заговорил об Александре Грине, даже про спирт забыл. Спросил, чему
из написанного Грином я отдаю наибольшее предпочтение? Я сразу назвал три вещи:
«Алые паруса», «Бегущая по волнам» и рассказ «Крысолов».
— О, пр-равильно! — подхватил П. — «Крысолов» — это гениально!
Потом он переключился на собственную персону. Я убрал подальше от его
размашистых рук планшет, краски-кисточки и банку с водой и приготовился слушать.
А куда денешься?
Он начал рассказывать о Высших режиссерских курсах, на которых ему довелось
набираться ума с ныне известными писателями со всех республик. Тем не менее он
там будто бы считался весьма видной персоной. Завершив эту тему, переключился на
Пушкина. Точнее на музей, что в Питере на Мойке.
— Пришел я туда, а у входа толпа! Достаю и показываю членский билет Союза
писателей. Говорю, что я коллега Александра Сергеича, и что стоять нам рядом —
оба на П. Меня сразу и пропустили.
— Наверное, ты бутылку вахтеру показал, а не членский билет.
— Там баба стояла в дверях. А бутылка мне самому нужна.
Я слушал, но постепенно стал закипать от такой нашей беседы. Даже голова
заболела — стало худо. А П. хватил наконец спиртяги и даже поперхнулся:
— Эт-то же спирт!!!
— Конечно.
— Так надо же предупреждать!
— Я тебе сразу сказал. Заешь!
— Уже прошло.
Действительно «прошло», так как теперь он принялся за Лермонтова.
— Слушай, мне надо работать, — взмолился я. — Отправляйся домой!
— Гонишь? Плесни еще.
— Нет. Все.
— Налей, и я уйду.
Налил, но после второй стопки мне пришлось взять его под белы рученьки и
доставить до дому, до хаты. Хорошо, что жил он не слишком далеко. Попутно я
узнал, что он «третий писатель в области». Двух первых, впрочем, не назвал.
Остаток дня худо-бедно прошел в трудах праведных, а вечером, когда я уже никого
не ждал, пришли Слава Крапивин и Витя Бугров — «веселые и голодные, как молодые
черти». Я тут же организовал стол. Спирт в чистом виде не предлагал. Для дорогих
гостей был у меня припасен «Абордажный ром». Тот же спирт, но слегка
подкрашенный кофе, с добавлением перца, лимонника и, кажется, мяты — для
смягчения нежелательных ощущений. Друзья выпили (я в ту пору был трезвенником) и
набросились на еду.
— Как вам понравилась «Абордажная»? — поинтересовался я.
— Показалось, что в голове взорвалась «лимонка», — признался Слава.
— Ощущение «спесфическое». Словами не передать, — отозвался Витя, налегая на
ватрушки и яичницу.
Когда они насытились и взорвали еще по «лимонке», я рассказал об утреннем
визитере, добавив, что мне нравится в нем искренняя самоуверенность в своем
предназначении и такое же искренне желание возвысить себя, хотя бы в глазах
такого невежи, как я.
— Честолюбие — чувство, понятное каждому, — сказал Витя, но при этом нужна и
трезвая самооценка. Я вот пописывал рассказики, но понял, что выше среднего
уровня подняться не смогу. Переключился и, пожалуй, горжусь теперь, что
«Следопыт», благодаря моим усилиям, стал центром советских «фэнов», стал таким
журналом, каким он есть сейчас.
— Только не надорвись, — посоветовал я. — Зайдешь в твой закуток, а из-за
рукописей только макушка видна, да сигаретный дым вьется, как из вулкана.
— Боцман, а ты честолюбием не страдаешь? — улыбнулся Витя.
— Боцману честолюбие ни к чему. Для него главное, чтобы матрос знал свой маневр,
чтобы все на палубе было тип-топ и оки-доки, а если после рейса он получит
надбавку к зарплате, так вот и честь, и слава его труду.
— Выкрутился! — улыбнулся Слава, взорвав очередную «лимонку». — Но ты же сейчас
не на палубе, а на твердой земле, а Сергей Казанцев сказал, что поставил твою
первую книжку в издательский план на восемьдесят пятый год. Неужели это событие
не задело твое честолюбие?
— До книжки еще дожить надо, и если все будет, как на палубе — тип-топ и
оки-доки, тогда можно слегка задрать «бушприт».
— Приземленно мыслишь, а без честолюбия нет настоящей литературы, — заявил Витя.
— Какой писатель без честолюбия?
Он меня зацепил за живое, и я, сколь помнится, вдруг разразился речью. Мол, есть
литература как вид искусства, а есть сочинительство, чтобы утвердиться в
собственных глазах. Все это разные вещи. Для настоящей литературы необходимы
талант и понимание значения слова и его возможностей (тут и особый склад ума).
Для сочинительства нужно только закрутить сюжет и уметь подать его. Как бы ни
были интересны такие сочинения, они лежат на нижней полке — на верхнюю им не
попасть. Я, господа, увы, только сочинитель. И не тщусь примкнуть к высшим
сферам. Не тот склад ума, не те данные и, значит, не те взаимоотношения с
Всевышним. И с честолюбием в том числе.
Такую вот речь закатил. Примерно такую.
— Готовая диссертация, — заявил Витя. Слава последовал его примеру и сказал, что
такие «диссертации» вредно слушать на ночь глядя, потому как будет сниться
всякая чертовщина: директора издательства, из которых выбрасывают твои тексты,
редакторы, которые портят твою вещь, бухгалтеры издательств, тянущие резину с
гонораром.
— И вообще… — Он взглянул на часы, — пора по домам, пора бай-бай.
Действительно, время перевалило за полночь. Я решил проветриться и проводить их.
Расстались на Декабристов около часу ночи.
Я возвращался к себе, размышляя о честолюбии, «диссертации» и писателе П.,
который честолюбив, ибо талантлив и знает цену своему дарованию. Бугров, к
примеру, трезво оценил свои способности. Не мне о них судить, коли своему
честолюбию Виталий нашел другое применение. Однако помнились и слова Крапивина,
сказанные, когда он впервые вел меня в редакцию «Следопыта», что Бугров
«задавил» в себе великолепного писателя-фантаста. И, главное, сделал это
осознанно, все взвесив, все разложив по полочкам. Но я-то честолюбием не страдал
и сразу осознал Витину правоту: он выбрал то, в чем мог проявить себя с
наибольшей пользой и к своему удовольствию.
Я с удовольствием вспоминаю восьмидесятые годы. Это было хорошее время, несмотря
ни на что. Хотя было от чего приуныть. Доклады Черненко и Андропова по идеологии
в июне того же 1983 года, помню, здорово расстроили главного редактора
«Следопыта» Мешавкина: «Теперь журналу не помогут, а гайки закрутят». Приуныл он
после юбилея журнала, отмеченного в апреле. ТЮЗ позволил провести в своем здании
сразу два мероприятия: собственно юбилей и вручение «Аэлиты» Владиславу
Крапивину от журнала. Хорошее то было время еще и потому, что мы, Крапивин,
Бугров, Другаль и я, встречались очень часто то у одного, то у другого, то в
редакции «Следопыта». В те годы я написал портреты Командора Славы, прозаика
Бори Путилова, технаря-фантаста Другаля, капитана дальнего плаванья Захара
Липшица, «фантастического» идеолога «Следопыта» Вити Бугрова, поэта Венедикта
Станцева. Замахнулся даже на портрет Николая Никонова. Он подумал и согласился
позировать, но удивился моей «смелости». Не помню почему, но портрет так и не
был написан, а жаль.
Да, восьмидесятые… В том же июне мы «отомстили» идеологам, отпраздновав свадьбу
младшего Бугрова, Дмитрия, а вскоре вышла моя первая и предпоследняя книжка «Мир
дому твоему». Появилась она после моей персональной выставки «Художник
путешествует» в Доме художника. Упоминаю об этом лишь потому, что выставка стала
причиной того, что я сменил художественного редактора «Следопыта» Маргариту
Горшкову на ее посту. Горшкова уходила на пенсию, но месяц с лишним натаскивала
меня, объясняя все тонкости совершенно новых для меня обязанностей. Теперь, с 1
декабря 1983 года, за исключением «творческих дней», я и Виталий могли лицезреть
физиономии друг друга с утра до вечера.
После выхода моей книжки снова всплыла тема — моя давняя «диссертация».
— Защитил «диссертацию»? — улыбнулся Витя, листая мою тощую книжицу. Поди и
честолюбие заиграло всеми цветами радуги?
Я не сразу сообразил, о какой «диссертации» идет речь. Он напомнил.
— Хилая получилась радуга — не взыграла.
— Не все сразу.
— Знаю. Я рассказ тебе давал. «Качели»* по твоей теме. Прочел?
— Прочел. Даже думаю предложить его в «Поиск». Но видишь, Женя, какая история…
До «Качелей» никто о питекантропах не присылал, а после — как из рога изобилия.
Передо мной стоит проблема… выбора.
— Понятно… — промямлил я.
— Ничего тебе не понятно! Сейчас дефицит на простое человеческое добро.
— Крапивин и Другаль?
— Хотя бы, хотя и они не закрывают проблему. А у тебя какая вывеска висит у
входа на территорию племени питекантропов? «Эх, дубинушка, ухнем!»
— «Качели» — шутка. А «дубинушка» служит добру: ухнет, и культуртрегер с шишкой,
но живой, покидает заповедную территорию. А если вернется, снова шишка и —
домой. Добро можно творить по-разному.
— Ты считаешь, что творил добро, когда угощал писателя спиртом?
— Я же говорю, по-разному. Не угости его я, он бы потащился к верхнему моему
соседу, Ефиму Гохвельду, своему однокашнику по универу, а тому какая радость?
Выходит, я и Ефиму сделал добро, и П. спас от похмелья. Не дай я ему, он бы
пустился по городу и где-нибудь нарвался бы на неприятности.
— Ты демагог и иезуит.
В общем, шутка так и осталась шутить в моей папке. В отместку я написал другой
рассказ «Осколок зеленой бутылки», героями которой стали, кроме автора (Петька
Редькин), его друзья — некие Валька Бугорков (тэ Боугровилль в дальнейшем) и
Сашка Крапивников (чтобы найти его другое обозначение, нужно рыться в текстах, а
мне недосуг). Вроде имелся в рассказе еще кальтенар тэ Дрыгаль. Понятно, что
речь идет о Сергее Другале. Он-то, единственный, и прочел рассказ, сказав автору
при возвращении рукописи, что надо бы переписать вторую половину. Я понял, что
фэнтэзи — не моя стезя, и отправил текст в ту же папку, где плесневели «Качели».
Жаль, что этот неудачный рассказ куда-то запропастился. Сейчас бы он пригодился
— как памятник памяти.
В мае 1988-го Вите «стукнуло» пятьдесят. Событие это было должным образом
отмечено и у него на дому, и в «Следопыте». Отметил крепко. Витина жена Наташа
не присутствовала на спонтанных торжествах, но позвонила в редакцию, чтобы
узнать, почему благоверный не торопится к семейному очагу. Витя ответил, но был
пойман на «произношении». Крапивин моментально это усек и увел юбиляра домой их
тайной тропой на берегу Исети. Уж не знаю, почему в редакции находился портрет
Крапивина. Видимо, я решил продемонстрировать сотрудникам журнала свою работу.
Теперь портрет был уже упакован и готов отправиться ко мне на квартиру. Взяв его
под мышку, я, в сопровождении Другаля, отбыл восвояси. Через сто метров нас
встретила Наташа, вышедшая на поиски супруга. Мы рассказали ей о суаре в
редакции.
— А Крапивин там присутствовал? — спросила она, с подозрением глядя в наши
честные глаза.
— Был, — ответил я. — Видишь, несу его домой.
Пришло время утрат. В декабре 1981-го умерла Ольга Петровна Крапивина, мама
Командора. Через сорок дней после ее смерти мы, Слава, брат его Олег (прах его
сейчас покоится в одной могиле с матерью) и я, отправились на Широкую речку.
Памятным был тот скорбный день. Когда Слава сложил из бумажного листка кораблик,
чтобы поставить у надгробия, ему на голову сел голубь, перелетевший затем на
шапку Олега, а потом спорхнувший на могилу. Теперь и Витя Бугров лежит не
слишком далеко. Но позволю себе снова процитировать Крапивина:
«…пиратские песни, которые мы сочиняли и распевали под гитару в студенческие
годы. Мы — трое друзей, образовавших союз «Братство Веселого Роджера». Витя
Бугров, Леня Шубин и я. Где сейчас Леонид, не знаю, а Витя…
Иногда я прихожу к невысокому памятнику среди больших берез и сосен. Достаю
плоскую фляжку с коньяком. «Давай, Вить, за все, что было…» Он понимающе смотрит
с каменного портрета: «Давай…» А у меня в памяти одна за другой — мелодии песен
из нашего флибустьерского цикла…
Пират веселый плавал в море Караибском
На корабле своем, как черный коршун, быстром.
Он на врага летел стремительней, чем выстрел,
И от погони уходил за пять минут…
…Потом я завинчиваю пробку и, держась за поясницу, подымаюсь со скамейки.
«Размять деревянное тело можно только в пути» (строчки из стихотворения Сережи,
юного читателя крапивинских книг — Е.П.). И я отправляюсь в путь, чтобы
работать дальше. Над фантастической повестью. Над какой еще повестью можно
работать после встречи с Виталием Ивановичем Бугровым? Он весь принадлежал и
принадлежит великой литературе Фантастике».
Виталий Бугров внешне жил незаметно (все были заняты своим и собой), но он,
по-настоящему, без грана фальши увлеченный своей работой, отдавался ей
полностью, до конца. Чего это ему стоило — понятно. Журнальная ежедневная
текучка, подготовка очередной «Аэлиты», поездки в Малеевку и Дубулты, где он
читал доклады на встречах с молодыми авторами. Больное сердце наконец утомилось,
устало от чрезмерных нагрузок и…
Вот описание того дня в моем «вахтенном журнале»:
«26.06.94. Воскресенье. Каюта. 12.30. Умер Витя Бугров. Последний раз мы
виделись с ним в редакции 14-го числа. Я отнес ему книгу Игоря Кузовлева. Он
собрался поработать и — в отпуск. И взял отпуск — вечный.
В пятницу я хотел позвонить ему. Уже номер начал набирать, но решил, что он еще
спит — «сова». К 14.00 отправился к Славе. Тот работал над новой вещью. Спросил
его, как Витя? Слава: «Говорил с ним по телефону. Он должен был увезти своих в
Камышлов, пожить с ними пару дней и вернуться. Наверное, уже приехал». Мешать
ему не стал. Ушел. Вечером набрал Витин номер. Сначала думал, не туда попал: в
трубке то ли смех, то ли плач. Спрашиваю: «Это квартира Бугрова?» Оттуда тихо:
«Женя… Женя…» — «Да?» — «Витя умер…»
Говорили мы около девяти вечера, а во сколько умер Витя? Наташа сказала, что
пришла она в половине восьмого. Дверь была открыта. Вошла. Позвала. Молчание.
Спросила: «Эй, умерли, что ли?». А Витя и умер. Лежал раздетый в кровати с
открытым ртом. Будто сил хватило только на вдох. Это случилось 24-го. 25-го
увезли на экспертизу.
А в тот вечер я позвонил Славе, Другалям (Сергей только-только уехал в Москву),
Гере Иванову.
Завтра утром возвращаюсь в город. Утром Слава и Казанцев идут в горсовет
хлопотать о Широкой речке. Главное, сын Бугровых Дмитрий в Сургуте на 250-летии
города. Прилетит в понедельник.
…Витя собирал детективы. Мечтал засесть за них, когда выйдет на пенсию. И залег.
Как так? И никто не знает, как умер Витя. Он был один. Господи, Витя, Витя…
03.07.94. Воскресенье. Другаль вернулся из Москвы в четверг. Вчера встретились —
был 9-й день Витиного ухода. Сидели напротив стены с его портретом (портрету уже
9 лет!), на нем Витя, сжимая в руке чашку, очень пристально смотрит нам в глаза.
Слава вчера побывал на кладбище. Уехал, собравшись спонтанно, как сказала его
жена Ирина».
Думаю, читателям известно, как устроена библиотечная картотека: шкафчик с
множеством выдвижных ящичков, внутри нанизанные на штырь карточки с названиями
книг и фамилиями авторов. Перебирай, выбирай, находи нужное. Такая карточка есть
и у меня. Ею заложена страница с той записью, что приведена выше. Не помню, как
карточка попала ко мне. На одной стороне, под названием книги «Гидроприводы
судоподъемника», Витиной рукой начертано четверостишие:
Amice! Alliegre magnamino e bevimmo,
Nfin she n’ce stace noglio a lucerna;
Chi sa s’a l’autro munno n’ce vedimmo?
Chi sa s’a l’autro munno n’ce taverna?..
«una copita del vino tinto»
На обороте карточки Витя дал и перевод.
Дружище! Пить будем мы весело оба,
Пока наша лампа горит кое-как:
Кто знает, что ждет нас за крышкою гроба?
Кто знает, найдем ли там этот кабак?
Пятая строчка дана без перевода. Не знаю, что она означает. Может быть, намек на
место будущей встречи? Или что-нибудь про «этот кабак»? Слава Крапивин
предположил, что встреча состоится на грани Безлюдных пространств. Витя давно
там. К нему успел присоединиться и Сергей Другаль. Попридержите, други, чуток
место за столиком, а место встречи, как в том фильме, изменить нельзя. На том
стоим.
Блестящий критик, историк жанра фантастики, создатель первого — и единственного
— в нашей стране музея фантастики, Бугров был одним из инициаторов и
организаторов ежегодных праздников «Аэлита». Несколько лет он руководил
семинаром на совещаниях молодых писателей-фантастов в Малеевке и Дубултах. Почти
тридцать лет проработал в «Уральском следопыте», где, по общему признанию, он,
собрав хорошую команду, своим энтузиазмом и талантом создал все то, что
называлось «Аэлитой» и было символом фантастики на Урале.
Витино честолюбие целиком помещалось в «смысле жизни». И потому, я уверен, он
навсегда останется в памяти знатоков и почитателей страны Фантазия, людей
особого склада, мечтающих найти за гранью Безлюдных пространств энтузиастов и
подвижников в вечной жажде новых открытий.
Я начал свой «мемуар» со слов Владислава Крапивина. И закончить опять хочу,
обратившись к страницам Славы. Есть у него книга с названием «Золотое колечко на
границе тьмы». В ней отдельный рассказ «Битанго» — о кубинском мальчишке с
воздушным змеем, который вернул память автора к далеким пятидесятым годам
университетского братства, когда Слава узнал от Бугрова смысл этого волшебного
слова — битанго, так по-испански называется летучий змей.
Я взял из этого рассказа только то, что созвучно времени наших встреч, когда мы
были особенно близкими:
«Любые воспоминания не точны. Человеческая память субъективна, прихотливо
отбирает из жизни что-то свое. Но, наверно, в таком «избранном» есть и зернышко
истины.
Возможно, я ошибаюсь, но теперь мне кажется, что у Виталия никогда не было
спокойных, пригодных для нормальной работы дней. По крайней мере, в редакции
«Уральского следопыта», где он трудился почти три десятка лет.
В каком бы редакционном помещении ни работал Виталий — в обширной ли общей
комнате, уставленной столами сотрудников, или в отдельном, похожем на клетушку
кабинете, его всегда окружали (осаждали!) посетители. Молодые авторы, жаждавшие
увидеть свои опусы на страницах «Следопыта». Неугомонные «фэны» — деятели клубов
любителей фантастики — громкоголосые, с «нездешним» блеском в глазах и с ворохом
неотложных проблем космического характера. Гости из разных городов — от
Владивостока до Бреста. Шумные, искренне уверенные, что Виталий Иванович Бугров
рожден на свет исключительно для общения с ними. Это я пишу без осуждения. Все
мы немного (а порой много) эгоисты.
И был вечный гомон вокруг него — тихого, улыбчивого, ни разу в жизни не
повысившего голос, ни одному человеку не отказавшего во внимании…
А если вдруг никого не оказывалось вокруг, тут же длинной междугородной трелью
взрывался бесцеремонный телефон…
И этот неистребимый табачный дым…
В первой половине восьмидесятых редакция «Уральского следопыта» находилась в
самом центре Свердловска, в старом особняке, на задах монумента Владимиру
Ильичу. А мы с Виталием оба жили на улице Белинского, недалеко друг от друга, но
от редакции на весьма значительном удалении. И постепенно сложился у нас обычай
летних прогулок.
В конце рабочего дня я приходил к Виталию, «изымал» его из тесного круга «фэнов»
или почти насильно отдирал от телефона, и мы шли домой. Пешком.
Так было несколько лет подряд. Даже когда я переехал ближе к центру, а редакция
— наоборот…
Мы выходили к плотине на проспекте Ленина, шагали через Исторический сквер,
пересекали улицу Малышева и у моста спускались к Исети.
Здесь был свой мир. Журчание воды, цветы высокого иван-чая и осота, переплетение
полузаросших тропинок, кривые заборы, старые тополя, зеленые дворики, домишки и
облупленные особняки начала прошлого века.
Мы брели то утонувшими в лебеде береговыми переулками, то над самой водой, где
из травы торчали гранитные ступени — остатки канувших в прошлое зданий и
набережных. А миллионный город оставался где-то за гранью беззаботной летней
тишины.
Трещали крыльями стрекозы. Перекликались на отмелях мальчишки-рыболовы.
Мы поддерживали друг друга на крутых спусках и беседовали о том о сем.
Только не о фантастике!
Еще в начале пути мы строго договаривались не касаться этой темы. Потому что
сколько можно об одном и том же! Так и свихнуться недолго!
Теперь кажется, что во время наших прогулок всегда стоял август — славная пора,
когда летнее тепло уже непрочно и особенно ласково, а в воздухе почти неподвижно
висят летучие семена.
Тихое это солнце и журчание реки навевало на нас лирическое настроение. Видимо,
и у меня, и у Виталия жила в душе ностальгия по рекам нашего детства. Конечно,
Исеть — не судоходная Тура, рядом с которой я провел свои школьные годы. И тем
более — не могучий Иртыш, на берегу которого вырос Виталий. Но все-таки река.
Несмотря даже на ощутимый запах промышленных отходов и торчащие из воды
автомобильные шины.
Итак, мы шли над Исетью и не говорили о фантастике.
Что, неужели нам не о чем больше побеседовать? Слава Богу, за тридцать лет нашей
дружбы всяких тем для воспоминаний накопилось немало.
…Мы познакомились в бревенчатом доме на улице Циолковского, где хозяйка баба
Катя сдавала комнаты студентам. Виталий поселился там раньше меня. Потом, с
направлением из хозчасти, пришел и я — обалдевший от радости (ура, зачислили!)
будущий первокурсник отделения журналистики.
В просторной комнате с незастеленными кроватями было пусто. За окном, на плоской
крыше какого-то строения, охотился за воробьями поджарый рыжий кот — совсем как
мой, оставшийся дома, в Тюмени. Чтобы не затосковать по родному крову, я не стал
смотреть на кота, опустил глаза. На подоконнике лежала потрепанная книга —
«Защита 240». Я знал, что это фантастическая повесть, но не читал. И теперь
начал листать…
…— Извините. Когда вы посмотрите, я должен буду взять эту книгу…
За открытым окном стоял молодой человек весьма интеллигентного вида. Худой, в
широких парусиновых брюках и ярко-желтой соломенной шляпе с черной лентой. В ту
пору у мужчин была повальная мода на такие шляпы.
Я со вздохом протянул «Защиту»:
— Жаль. Давно хотел прочитать…
— Вам нравится фантастика?
— Ну, разумеется!..
Слово за слово, и оказалось, что мы почти земляки…
Нам обоим, покинувшим привычные родные места, как было не проникнуться
земляческой симпатией друг к другу!
Но главное все же не это. Главное — то, что оба мы считали своим и близким
вымышленный мир Жюля Верна и Уэллса, Беляева и Грина, Ефремова и Циолковского.
(Был пятьдесят шестой год; Стругацких, Брэдбери, Толкиена и многих других
славных имен тогда мы еще не знали).
…— Если вам… если тебе эта книжка интересна, я оставлю. Я до занятий собираюсь
съездить домой и хотел прихватить ее с собой, чтобы занести в картотеку.
Уже тогда Виталий вел картотеку фантастических произведений. В ту пору это было
не так сложно, как после: советская и переводная фантастика была не очень-то
богата. Но все же где-то на втором курсе Виталий, я и наш друг Леня отметили
тысячную карточку в этой Витиной библиографии. Хорошо отметили, с весельем и
песнями собственного сочинения, которыми богат был наш «тройственный союз».
— Вить, а сейчас у тебя небось уже тысяч двадцать карточек-то?
— Где-то около… Ну и немудрено! Вон сколько новых имен! Не успеваешь читать.
Только в этом году уже…
— Витя! Мы же договорились!
— Ох… Но ты же сам начал про картотеку.
— Я — про молодость… Слушай, а знаешь, как пахнет здесь трава? Как на аэродроме
в Белоруссии, где мы видели генерала. Помнишь?
— А… Да! В Молодечно…
В начале шестидесятых мы с Виталием были в гостях у моего старшего брата —
собкора минской газеты — и много колесили по дорогам Западной Белоруссии. Без
особой цели, ради «познания окружающей действительности». И однажды решили
полететь из Молодечно в Минск, к моему отцу.
Аэродром в Молодечно был патриархальный, с коровами в густой траве и дощатым
диспетчерским домиком.
В тени этого домика, прямо в траве, прислонившись к стене, сидел генерал с
околышем небесного цвета и такими же лампасами. Дожидался рейса и читал книжку.
Нам показалось удивительно забавным, что генерал-майор авиации, которому
полагается летать на грозных военных машинах, сидит тут и скромно ждет мирный
аэрофлотовский «кукурузник».
Я сперва даже вознамерился снять эту сценку карманной кинокамерой. Но не
решился. Вдруг этот генерал — засекреченный, как какой-нибудь военный объект.
Доказывай потом, что ты не шпион…
Впрочем, едва ли генерал обратил бы внимание на аппарат, он был увлечен книгой.
— Это был Брэдбери, — охотно вспоминает Виталий.
— Да. По-моему, «Вино из одуванчиков»…
— Ну, какое же «Вино»! Оно тогда еще не было напечатано! Это был «Четыреста
пятьдесят один градус…»
Я не спорю. Виталию виднее. К тому же мы опять «съехали на старые рельсы». Я
«перевожу стрелку»:
— Кстати, о вине… Отчего бы нам слегка не нарушить указ о борьбе с пьянством и
алкоголизмом? То есть, наоборот, неплохо бы посодействовать ему, уничтожив некую
толику противозаконного зелья?
Виталий тут же откликается. Перефразирует слова из любимого нами романа братьев
Стругацких:
— Отчего бы и не посодействовать, если у благородных донов есть на то желание и
возможность…
Мы усаживаемся на плоском камне, окруженном репейниковой чащей. Грозный указ — в
самом разгаре действия, но здесь, в зарослях, мы укрыты от вездесущей
общественности и от бдительных стражей правопорядка. Таинственность обстановки
привносит в наше действо веселый, почти мальчишечий азарт. Один из «благородных
донов» (это я) достает из пиджачного кармана плоскую стеклянную фляжку с
пятизвездным зельем.
Мы делаем по маленькому (правда же, по маленькому, ритуальному) глотку. Над нами
летают коричневые бабочки. Ползет по лопуху красно-черный жук-пожарник. Сидеть
бы так и сидеть, не спешить. Ну, мы и не спешим…
Витя разглядывает фляжку. На ней пестрая этикетка с пиратской рожей и надписью
«Родная морская». Ну, прямо иллюстрация к флибустьерским песням, которые мы
сочиняли в студенческие годы:
Где Наветренный пролив,
Бродят наши корабли.
Горизонт окутал мрак,
В небе реет черный флаг…
Но у наклейки более позднее происхождение. Ее нарисовал наш друг Евгений
Иванович Пинаев — человек с внешностью отставного боцмана, душой поэта и
биографией бродячего живописца и моряка-парусника, просоленного океанскими
ветрами.
Однажды объявилось у Жени этакое хобби — склонность к рисованию винных этикеток.
Ну, а будучи писателем и художником, Евгений Иванович скоро пришел к мысли о
необходимости единства формы и содержания. Поэтому, наклеив этикетку ликера
«Слезы Билли Бонса» на соответственно подобранную бутылку экзотической формы, он
тут же начинал думать, чем данный сосуд наполнить.
Как истинно творческая натура, Женя сам придумывал рецепты подходящих напитков
и, как говорится, внедрял оные в жизнь. Но здесь возникала одна трудность. Сам
изобретатель не принимал спиртного. Поэтому он давал дегустировать свои напитки
друзьям. Друзья поначалу откликались охотно, не ведая последствий… Сам я, помню,
двое суток лежал после знакомства с коньяком «Одноногий дьявол».
А наливка «Родная морская» однажды на целых полчаса ввела в столбнячное
состояние экипаж крейсерской яхты «Фиолент». Во время плавания. Хорошо, что
творец упомянутого напитка — сам профессионал-парусник: трезвыми руками он
самолично взялся за штурвал…
Но это — сюжет для отдельного рассказа.
Теперь же во фляжке из-под упомянутой выше адской жидкости булькает довольно
безобидная продукция грузинского «Самтреста». Однако воспоминание о случае на
яхте переносит наши мысли в Севастополь…
— Витя, помнишь, как на херсонесском пляже, под большим колоколом, к нам
подбирались пацаны-разведчики? Они увидели нашу камеру для подводной съемки и
решили, что мы диверсанты.
— Ну да, это сперва решили. А потом-то мы с ними познакомились.
Один из мальчишек нашел в гальке золотистую жестяную крышку от банки и пускал
зайчиков. И сказал, что это у него гиперболоид.
— А ты читал про гиперболоид? — оживился Виталий.
Оказалось, что мальчишка читал и про инженера Гарина, и про Аэлиту, и про
путешествие из пушки на Луну, и про плавание подлодки «Пионер» через два океана.
И что он вообще ужасно любит книжки с золотистой узорчатой рамкой на переплете.
И ничего, если этот переплет обтрепан, а позолота облезла. «Такие даже
интереснее…»
Так повстречали мы на древнем берегу Херсонеса маленького единомышленника. И
запомнили…
Я думал об этом похожем на коричневого кузнечика пацаненке с солнечным зайчиком
в руках, когда писал грустную повесть-сказку «Дырчатая Луна».
Виталий не прочитал эту повесть. Новенькую книжку с «Дырчатой луной» я подарил
его внуку, когда пришел домой к Бугровым, чтобы отметить печальную дату, девятый
день…
Не хочется писать о смерти. Тем более что ее, скорее всего, и нет. Когда у
Виталия во сне остановилась изношенная от постоянной работы, от перегрузок
сердечная мышца, душа его, наконец, свободно рванулась в дальние галактические
края. В те миры, которые он в земной своей жизни учил нас чувствовать, описывать
и постигать. Так мне хочется думать. На это я надеюсь. И на будущую встречу…
С такой мыслью легче жить. Но все же обидно, что все случилось так
непредсказуемо. И рано. Столько надо было еще сделать, столько успеть. И ведь не
старики же еще, хотя, конечно, и не юноши. Хотелось вместе дотянуть до начала
нового тысячелетия, заглянуть: каким оно будет?
Впрочем, я думаю, сейчас Виталию известны такие тайны мироздания, о которых мы
не можем и помыслить.
Он ушел к этим тайнам, а оболочку его приняла в себя родная планета Земля. И
оказала своему сыну последнюю честь: когда насыпали глинистый холмик, вокруг над
вековыми березами и соснами гремела гроза и свисали с туч сизые космы ливня, но
ни одна капля не упала на собравшихся. А на цветы, покрывшие рыжую глину, сквозь
разрыв в тучах светило влажное сверкающее солнце…
Дней за десять до этого печального дня мы с Виталием сидели у меня дома и
обсуждали совместную статью, которую собирались писать для белорусского журнала.
И говорили еще о многом.
— Витя, скоро ведь сорок лет, как познакомились…
— Да, бежит времечко.
— Слушай, а я наконец сочинил свои «мемуары» о нашем студенческом житье-бытье.
Называются «Битанго». «Екатеринбургская неделя» обещает напечатать отрывок. Как
раз про наши «караибские» вечера.
— Ты прибереги для меня экземпляр…
Потом я пошел провожать Виталия до троллейбуса. Не хотелось расставаться. Может,
чувствовал что-то? Да нет, ничего… Мы вместе доехали до остановки, где была
пересадка. Там он из троллейбусной двери помахал рукой…
Потом через несколько дней был еще телефонный разговор:
— Когда займемся статьей, Витя?
— На той неделе… Не забудь про газету с «мемуарами»…
Газета с отрывками из повести «Битанго» вышла в пятницу, 24 июня девяносто
четвертого года. С рассказом про наши песни об ураганах, абордажах и грозящем
нам смертном часе — хотя по правде-то смертный час «виделся нам где-то за
бесконечностью».
И у бесконечности бывает конец. Виталий не успел прочитать эту газету. Утром
того дня он не проснулся. Бывают такие вот горькие совпадения.
…Конечно, я понимаю, что в моих записках мало существенного. Но о Виталии
Ивановиче Бугрове — редакторе, библиографе, писателе, великом знатоке
фантастики, о друге и наставнике молодых авторов, о человеке, сумевшем
объединить множество тех, кто предан «звездной литературе», — будут еще писать
не раз.
А я — о Вите, с которым мы были рядом почти четыре десятка лет, целую жизнь. И
поссорились всего два раза. Оба раза — из-за начинающих писателей-фантастов. Я
говорил: надо печатать, а он — не надо. Были у него на то веские причины
редакторского свойства. Там, где касалось литературы, мягкий интеллигентный
Виталий Иванович был бескомпромиссен. Один раз я его все же убедил, второй —
нет. Впрочем, это никак не отразилось на нашей дружбе. В конце концов, бывает,
что и братья ссорятся. А Витя был как брат, это уж точно.
Но сколько же горького в этом «был». И пусто мне без Вити на этой планете.
И вот, чтобы утешить себя, я вспоминаю, как мы идем заросшими тропинками над
Исетью. И висят над нами пушистые летучие семена…» (Рассказ В.П. Крапивина «Битанго»).
Калиново, 09.08.12 |
|
 |
|
 |
|